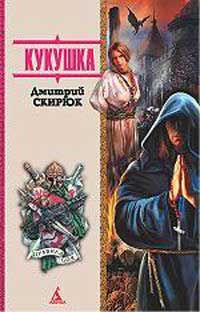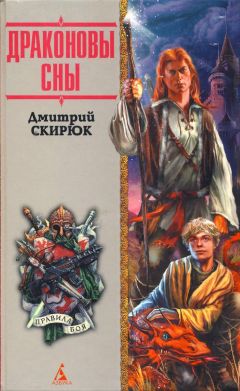Стемнело. Йост принёс им мяса, хлеба и вина, они перекусили, запалили камин и масляную лампу и опять принялись за работу. Следуя указаниям кукольных дел мастера, Фриц обтесал все отпиленные им бруски на усечённый конус и при помощи коловорота проделал в них отверстия. Уже сейчас можно было опознать в них руки и ноги будущей куклы, и кукла эта обещала быть огромной. Фриц по-прежнему не понимал смысла всей затеи; он зевал, два раза порезался, итальянец же казался неутомимым: резал дерево, плавил воск, клеил, разводил краски... Была глухая полночь, когда он наконец разрешил Фридриху лечь спать — тот уже валился с ног и пользы от мальчишки всё равно не было. Он доплёлся до кровати, где уже посапывала Октавия, едва нашёл в себе силы стянуть башмаки и уснул, прежде чем его голова коснулась подушки.
...Когда солнечный луч на следующее утро тронул его щёку мягким теплом, Фриц пробудился далеко не сразу и некоторое время лежал, вспоминая вчерашнее. Веки не хотели открываться, усталые мышцы зудели. В комнате царила тишина. Фриц заворочался, приоткрыл один глаз, другой и вдруг вытаращился при виде странной картины.
На столе, среди раскиданных инструментов и стружек, свесив руки, сидела Октавия, а итальянец с банкой в одной руке и кисточкой в другой нависал над нею, как диковинная бородатая гора, мурлыкал себе под нос что-то неаполитанское и... раскрашивал девочке лицо. Работал он сосредоточенно и аккуратно, Октавия тоже сидела неподвижно. Из угла, где стояла кровать, Фрицу был виден только тонкий изгиб детской шеи, вздёрнутый подбородок и знакомый профиль на фоне яркого окна, поэтому он как-то не сразу обратил внимание, что девочка зачем-то наголо обрита и обнажена.
А потом он сообразил, что рядом с ним в постели по-прежнему лежит и дышит что-то маленькое и тёплое, обернулся и обнаружил... ещё одну Октавию у себя под боком. Он вздрогнул и вдруг всё понял. Карл-баас расписывал куклу.
* * *
Под караулку испанцам отвели большую комнату на первом этаже в странноприимном доме. Помещение было немаленькое, но солдаты быстро умудрились загромоздить его и превратить в казарму, а казарму — в свинарник. Койки там стояли в два ряда, их было два десятка. Часть их составили друг на дружку, часть прислонили к стене, из двух соорудили стол, освободившееся место загромоздили доспехи, амуниция, оружие и пустые бутылки.
Томас переступил через порог и поморщился. Пол был затоптанный и грязный, окна никогда не открывались, воздух был затхлый и спёртый, пропитанный винной кислятиной, потом и табаком. Юный монах подобрал полы своей рясы и двинулся к дальней кровати, где без тюфяка, прямо на верёвочной сетке, храпел Михелькин. Больше здесь никого не было — кто не стоял в карауле, предпочитали отдых во дворе, на солнышке. Момент для разговора был выбран удачно.
Михелькин спал тяжко, безобразно, только что не поперёк кровати, укрывшись вместо одеяла ватной курткой так, что наружу торчала лишь неряшливая копна белых волос. На полу валялось штук пять или шесть бутылок из-под вина, ещё одна, наполовину полная, стояла в изголовье кровати, накрытая глиняной кружкой. Томас остановился возле, некоторое время стоял в нерешительности, потом выпростал руки из рукавов и потеребил фламандца за плечо.
— Михелькин, — позвал он. — Михелькин Лаш... Проснись.
Спящий заворочался, перевернулся, открыл глаза и бездумно уставился на стоящего над ним монаха. Узнал.
— Что... кто... фратер Томас? Я... — Он поднялся, отряхнул руки, ухватился за голову и стал тереть глаза. — Ох! Я... это... Я сейчас...
Фламандец сел, вернее — попытался сесть, но сделал это так резко и порывисто, что его повело. Он запутался в куртке и завалился на бок. Упёрся ладонями в пол. Томас нахмурился, но ничего не сказал. От парня разило, он выглядел невыспавшимся, опух и мало что соображал. Стоило ли ним беседовать? С другой стороны, «In vino veritas», — напомнил он себе. «Истина в вине». Что у трезвого на уме, у пьяного на языке.
Наверное, стоило.
— Нужно п-поговорить, — сказал монах.
Михель закивал, кое-как встал, растопырил руки и пошатываясь направился наружу, где под водостоком стояла бадья. Томас отодвинул засалившуюся куртку с намерением сесть на кровать, но передумал и остался стоять. Было слышно, как за углом журчит струя, потом как фламандец плещется и фыркает. Когда Михель вернулся, выглядел он уже не так ужасно, во всяком случае шёл по прямой. Взгляд стал осмысленным, и только жилки воспалённые в глазах напоминали о многодневной пьянке.
— Что случилось? — хмуро осведомился он, но тут же спохватился: — То есть я хотел сказать: что я должен делать?
Брат Томас ответил не сразу, и некоторое время они просто стояли друг напротив друга. В раскрытую дверь ползли запахи холода, лета и мокрой земли.
Михелькин чувствовал неловкость перед этим маленьким монахом, в сущности совсем мальчишкой, у которого ещё не пробились усы и не сломался голос, но это была странная неловкость — гулкая, пустая, словно барабан, замешанная на страхе и непонимании. Зачем он пришёл? — этот вопрос только сейчас возник в его голове. С похмелья Думалось со скрипом, мысли ворочались в голове медленно, как мельничные жернова.
В последние несколько дней он был сам не свой — то метался, то впадал в прострацию, то мучился бессонницей, то спал сутки напролёт. Составлял пустые, по-мальчишески наивные планы побега, которые все никуда не годились. С недавних пор палач, герр Людгер, добился от инквизитора разрешения на посещение пленницы. Эти встречи можно было назвать свиданиями, если бы их надо было как-то называть.
* * *
Михелькин с грустью начал понимать, что совершенно не знает эту девчонку, с которой так обошёлся, и ловил себя на мысли, что хотел бы узнать её получше. Но толку не было. Девушка замыкалась всё сильней. Михелькин приходил к ней в келью, садился на табурет и говорил — рассказывал какую-нибудь ерунду о себе, какие-то байки из деревенской жизни, но всякий раз давился и умолкал под взглядом тёмно-карих глаз. У неё были удивительные глаза, но сейчас в них жили только печаль и пустота. Он чувствовал себя так, будто вырвал из неё некий стержень, на который, как мясо на вертел, нижутся людские чувства; вырвал собственной рукой и никогда уже не сможет водворить его обратно. Это было не под силу ни ему, ни ей, а кому под силу — он не знал. Может, святому отцу, может, Господу Богу, а может, никому. Мрачный, раздражённый, Михелькин возвращался в казарму, не разуваясь валился на кровать, бездумно смотрел в потолок и много пил, так много, что желудок взбунтовался и теперь отказывался принимать еду. Михель измучился и до неузнаваемости похудел, но находил в этом какое-то мрачное удовлетворение, будто эти его телесные муки были сродни тем, что испытывала девушка, нося под сердцем его ребёнка.