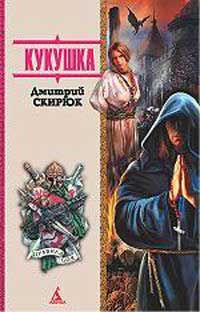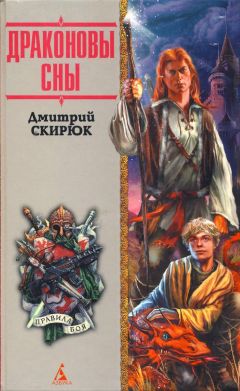А со вчерашнего дня к ней перестали пускать посетителей.
И Томас тоже думал. Думал о том, что, в сущности, совсем не знает, для чего, по какой причине к ним прибился этот паренёк. В какой-то мере он был с ними заодно, хоть и не состоял на службе; испанцы ему доверяли, брат Себастьян тоже относился благосклонно. Но сейчас Томас не хотел говорить с ним как с подчинённым. Скорее здесь уместнее была бы исповедь, но она предполагала тайну для одного и добрую волю для второго. Он снова бросил взгляд на Михеля. Они не слишком различались по возрасту. Вполне могли бы быть друзьями...
Доверие.
Брат Томас вздохнул. Ему нужно было добиться от него доверия. Очень многое нужно было узнать от этого белобрысого фламандца, который, как теперь уже понятно было, подписал своей любимой смертный приговор и не смог смириться — то ли с тем, что подписал, то ли с тем, что все ещё любил. И поэтому от первого вопроса зависело многое.
Очень многое.
— Зачем ты столько пьёшь? — тихо спросил Томас. Спросил и сам удивился, с чего вдруг.
А Михелькин растерялся. И спрятал глаза.
— Все пьют, и я, — сказал он, не глядя на Томаса. — Чего ещё делать-то?
— Молиться.
— Я... я молюсь. Я ни одной мессы не пропустил.
Томас снова вздохнул и покачал головой — когда-то он заметил, что если его наставник так делает, собеседники слегка теряются, и перенял этот жест. Вот и сейчас сработало: Михель весь как-то сжался, и Томас понял, что попал в цель, как ловец жемчуга, удачно вогнавший нож меж приоткрытых створок крупной раковины. Теперь осталось только надавить и не сломать.
— Я вовсе не это имел в виду, — мягко сказал он. — Тебя что-то г-гнетёт. Очень сильно гнетёт. Это видно. Месса — это долг. А я говорю о том, чтобы раскрыть д-душу. В светлых чувствах. Самому. Ты понимаешь, о чём я? (Михель кин кивнул.) Хорошо. Но я пришёл не за этим.
— Зачем?
Томас огляделся.
— Сядем.
Они сели на кровати друг напротив друга.
— Чтобы понять некоторые вещи, требуется время, — помолчав, сказал брат Томас. — Эта девушка п-представляет собой загадку. Мой учитель движется своим путём. Он логик и мыслитель. И это п-п... правильно. Инквизиция суть расследование, поиски истины. Но есть мысль и есть движение души, есть догадки и есть прозрение... Ты ведь знаком с этой девушкой?
— А? — встрепенулся Михель. — Да... Да, я был с ней знаком. А что?
— Ты г-говорил — она тебя ударила ножом.
— Я? Ах да... Ударила. Ага. Сюда вот. Это... я её хотел обнять... Ну, обнял. Это... А она меня ударила. Я ведь говорил уже про всё это отцу Себастьяну, зачем ты меня снова спрашиваешь?
Фламандец или был дурачком, или удачно притворялся. А может, из него ещё хмель не выветрился. Так или иначе, Томас продолжил наступление:
— Г-где ты её повстречал?
Михель почесал небритую шею.
— Мы виделись... один раз, — уклончиво ответил он. — Я её и не знаю почти.
— Она не из твоей деревни?
— Нет, не из моей. Она... ну, просто пришла.
Томас заинтересованно подался вперёд:
— Что значит: «Просто п-пришла»? Она ведь шла о-э... откуда-то. Куда-то. И наверняка не просто так. По поздней осени не ходят п-просто так.
Михель потупился.
— Она сказала, — проговорил он глухо, — что идёт на богомолье.
Брови Томаса полезли вверх.
— На богомолье? А к-куда?
— Не помню. В какое-то аббатство. Врала, что дядя у неё где-то у нас живет. Деревню называла, только я забыл. Да тоже, наверно, врала.
— С-с... с... совсем не помнишь?
— Да развлекались мы! Пили в кабаке. Она вошла... мокрая вся... холодно было, лило. Мы пригласили её с нами посидеть. Поставили ей вина, она пила, потом...
— Она тебя в к-кабаке ножом пырнула? Прямо там, п-при всех?
— Что? А, нет, не в кабаке — в хле... гм... на улице.
— П-прямо на улице?
— Ага. На улице. За домом.
Томас сосредоточенно поглядел ему в глаза.
— М-михель, — медленно сказал он, — ты врёшь сейчас, правда? А ведь ты свидетель. На допросе т-тебя будут спрашивать. И чем больше ты будешь путаться, т-тем хуже будет для тебя и для неё. Я б-больше ничего не стану спрашивать, я сейчас уйду. Но ты...
Михелькин вскинул голову так резко, что с мокрых волос полетели брызги. По тому, как изменилось выражение его лица, было видно, как он взволнован, — как и все блондины, Михелькин краснел мгновенно, целиком, от подбородка до бровей, и совершенно не умел скрывать свои чувства. Но колебания его если и были, то закончились ничем.
— Мне больше нечего сказать, — упрямо сказал он и опустил глаза.
Несколько томительных секунд — и вдруг Томас, по какому-то наитию, по странной, звонкой пустоте за сердцем, так знакомой всем поэтам, музыкантам и пророкам, вдруг задал ещё один вопрос, такой же неожиданный, как тот, первый, насчёт вина.
— Это т-т... твой ребёнок?
И сразу — по расширенным зрачкам, в которых заметался суеверный страх, по крови, снова бросившейся Михелю в лицо, без всякого ответа понял: вновь попал.
И почувствовал, как по спине бегут мурашки.
Чтоб успокоиться, Томас прикрыл глаза и дважды прочитал про себя «Pater noster». Всё это время в кордегардии царила тишина.
— М-может, от тебя зависит, будет она жить или умрёт, — осторожно сказал он. — Т-ты же знаешь, как положено поступать с ведьмами... и с их детьми. Или не знаешь?
— Нет! — ломким, давящимся голосом вдруг закричал Михель. — Нет, нет! Он не мой!
Он закашлял. Перегнулся пополам.
— Amor tussisque non celantur, — сказал Томас, — «любовь и кашель не скроешь».
Михель ощупью схватил бутылку, скинул на пол кружку и торопливо присосался к горлышку. Кадык его задвигался.
Томас покачал головой:
— Ты слишком много пьёшь.
Михель не отреагировал. Рот его переполнился вином, две струйки побежали вниз по белой коже — воск от красной свечки, кровь из перебитых вен... Если он хотел напиться, чтоб упасть без памяти и более не отвечать, это могло произойти. Томас, ощутил, как в нём опять просыпаются раздражение и гнев.
Он встал.
— Ты слишком много пьёшь! — с нажимом повторил он, быстрым жестом протянул руку и коснулся бутылки зудящими пальцами.
Михель замер с раздутыми щеками, выпучив глаза, как лягушка, и вдруг всё выплюнул враспыл, как это делают гладильщицы, забрызгав монаха с ног до головы. Тот, к его чести, остался совершенно невозмутим, повернулся и молча вышел вон. Даже не утёрся.
Михелькин проводил его взглядом, осторожно понюхал горлышко бутылки, вновь ошеломленно посмотрел монаху вслед и опять покосился на бутыль в своей руке.
Внутри была вода.