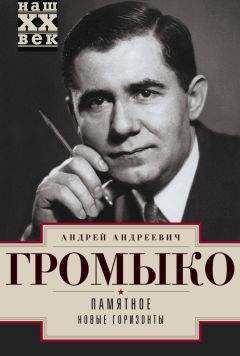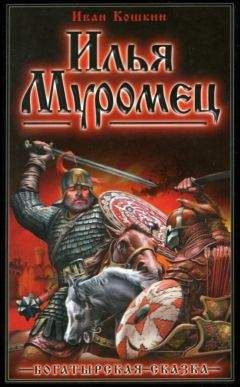– Ах ты, лошадка бедная…
Молвил тут конь мрачным голосом человеческим, от корыта взгляд недовольный отводя:
– Лошадки на деревне навоз возят. А я – конь богатырский, не видно, что ль? Глаза протри, жалельщица белобрысая…
Я так и села.
– Ты что, говорящий?!
– Нет, разговаривающий! – Огрызнулся конь еще ехидней. – Говорить и скворец выучится, ежели долбить ему одно и тоже по сто раз на дню! А ты кто такая?
– Жена Кощеева, Василиса Прекрасная!
– Что-то не похожа… – Недоверчиво проворчал конь. – То есть, на жену. А ну, покажи палец!
Я показала.
– Другой, бестолочь! Этот палец только разбойники дружинникам показывают! – Обиделся конь. – С кольцом венчальным!
Я выпростала из-под платья цепочку с кольцом и черепом.
– Вон оно как… – Уважительно протянул конь. – Хозяйка, значит, моя новая… Извиняй тогда, ежели нагрубил… А то ходят тут всякие, потом у Кощея плетки пропадают. Прошел, вишь ты, слух, что ежели на берегу реки плеткой Кощеевой три раза налево махнуть – мост вырастет, направо – пропадет. Думают, тут им прям в конюшне раритеты колдовские бесценные по стенам развесят, еще и подпишут, что к какому месту прикладывать!
Я усмехнулась.
– Тебя-то как звать-величать, конь богатырский?
– Сполох. – Гордо фыркнул жеребец, тряхнув гривой. – Можно просто Паша.
– А скажи мне, Паша, – попросила я, – зачем Кощей своих жен со свету сживает?
Жеребец заржал – засмеялся по-лошадиному.
– Кто? Кощей?! Окстись, царевна! Меньше всего Кощея бойся – у него ты в великом почете до самой смерти ходить будешь!
– Тогда… челядь Кощеева? – Предположила я.
– Пылинки с тебя сдувать будет! – Заверил конь. – Только без Кощея за ворота не ходи, хозяйка, и цепочку не в коем разе не снимай. В черепе-обереге сила Кощеева заключена, она тебя никому в обиду не даст, испепелит злодея на месте.
– Отчего же сей оберег других жен не защитил? – Не поверила я. – Или Кощей прежде не давал его никому?
– Всем давал, да все его ослушались. – Зловеще заржал конь. – А за воротами оберег всякую силу теряет, ежели Кощея рядом нет…
– Тоже мне, чернокнижник – толкового оберега измыслить не может. – Проворчала я, кидая череп за ворот. – Тебя-то он за что на цепях держит, голодом морит?
– Да он, скотина, с утра третье корыто овса отборного выжрал, а ежели его семью цепями не приковать, удерет и всех кобылиц в округе перепортит! – Встрял в разговор проснувшийся конюх. – Баба-Яга до сих пор с Кощеем не здоровается – по весне народились в ее племенном табуне жеребята говорящие, да такие охальники, что ни один конюх больше трех дней у бабки на службе не выдерживает, расчет берет…
– А сам-то? – Огрызнулся конь. – Думаешь, не знаю, за что тебя давеча на деревне злобны молодцы оглоблей приласкали? Вот нажалуюсь хозяину, что ты по ночам по бабам бегаешь, вместо того чтобы за конями ходить!
Конюху крыть нечем, разве что словами неблагозвучными, повесил он буйну голову и пошел за вилами – стойло вычищать. При нем коня дальше расспрашивать несподручно, дай, думаю, у воеводы остальное выведаю.
Воевода в дружину уехать не поспел, все сидит в трапезной за столом прибранным, карту перед собой расстелил, оловянных пехотинцев да конников расставил и что-то им втолковывает, видать, дух боевой подымает.
Присела я рядышком, глазки потупила, косу тереблю застенчиво.
– Ой, Черномор Горыныч, до чего ж ты удалой воевода! Враги, поди, от твоей дружины так вспять и бегут, щиты-копья бросают, только подбирай…
Смутился воевода, игрушки со стола смел, карту трубкой скатал.
– Да так, – покашливает скромненько, – бегут помаленьку…
Ага, вижу, проняло! Давай ковать, пока горячо:
– А вы, поди, вперед всей дружины скачете, врага бьете, как траву косите?!
Молодцев хлебом не корми – выслушай, какие они сильные, смелые, умные, да сделай вид, что поверила – все твои будут! Воевода усы разгладил, и пошло-поехало: «Мой меч, его голова с плеч!… Не столько бью, сколько конем топчу!… Раз махну – улица, назад отмахну – переулочек, и скоро все войско побил-повоевал!». Кощей с дружиной словно и вовсе не при деле – так, на подхвате, щиты-копья подбирать.
Смешно мне это слушать, под столом за коленку себя щипаю, однако ж для виду поддакиваю и охаю исправно. Подобрел воевода, уже и «Василисушкой» меня кличет, и смотрит ласково – все, что ни скажу, сделает, что ни спрошу – скажет, и чаровать не надо.
– Что-то я, Черномор Горыныч, никак в толк не возьму – пошто Кощей жен берет, да понепригляднее сыскать норовит, коль ему до жизни супружеской вовсе дела нет?
А воевода и рад стараться:
– У Кощея договор с басурманами, что не будут они войной ходить на Лукоморье, а купцов наших поклялись отпускать с прибытком невозбранно, за что и мы их трогать не станем. Все бы хорошо, да у басурман заведено, что у добра молодца всенепременно жена должна быть, а лучше несколько, иначе они его и слушать не захотят, а тем паче уговор блюсти: соврут и глазом не сморгнут. И вот ведь какая незадача – повадился кто-то жен Кощеевых изводить, выманит из терема и зарубит аль стрелкой проткнет.
Не поверила я:
– Неужто вся челядь Кощеева за одной женой уследить не может?!
– То-то и оно, что не может, ровно глаза ей кто отводит. Кому-то, видать, наш мир с басурманами поперек горла встал. Есть у нас подозрение, что виной всему старший сын главного басурманина: сынок-от воеводой у него стоял, а как договор заключили – войско басурманское по домам разбрелось, командовать некем стало, вот он на нас зуб и заимел. Окромя же политики, жена Кощею без надобности, он опосля полона на женщин и вовсе не смотрит, потому и подбирает пострашнее, чтобы не жалко было.
Всплеснула я руками:
– Кто же это самого Кощея полонить сумел?
Тут спохватился воевода, что наговорил лишнего, из-за стола поднимается:
– Извини, Василиса Еремеевна, надо мне в дружину съездить, а то как бы молодцы мои без меня вовсе не обленились, меч-копье держать не разучились.
С тем и удрал. Выпросила я у Прасковьи Лукинишны коробку ниток шелковых да кусок полотна беленого, задумала вышить на нем все царство Лукоморское, с городами и деревнями, с лесами и нивами, и птицами в небе, и зверями в горах, и рыбами в морях, а кругом луна и солнце ходят. Не мастерица я вышивать, да учиться никогда не поздно, тем более делать-то все равно нечего.
К вечеру с солнцем управилась; ежели не приглядываться, то похоже. А что нитки кое-где торчат, так их за лучи выдать можно. Будет батюшке полотенце праздничное… или банное… на худой конец, нос утирать сгодится.
Отложила я покамест труд свой великий, спустилась в светлицу ноги поразмять – а там Кощей сидит, думу думает перед доской шамаханской клетчатой. Недолго сидит, только три костяшки передвинуть и успел. У меня так руки и зачесались ему подсобить. Подошла поближе, встала рядышком, смотрю на доску, как кот на сало – Кощей же меня будто и не замечает. Руку к черному коню в раздумье ведет, а я возьми да опереди – мечника черного вперед двинула. Зависла над доской рука протянутая. Поднял Кощей на меня глаза свои бесцветные, зрачками горящими глядит-буравит. У меня душа в пятки ушла: ну, думаю, сейчас поставит костяшку на прежнее место, а меня прочь прогонит, ан нет: взгляд на доску перевел, белого коня вперед двинул. Вздохнула я с облегчением, напротив села. Берендейской-то клетке я сызмальства обучена, уж больно любил ее наш волхв, мог часами сам с собой воевать, да только с живым противником куда как интересней – вот и Кощею надоело переливать из пустого в порожнее.