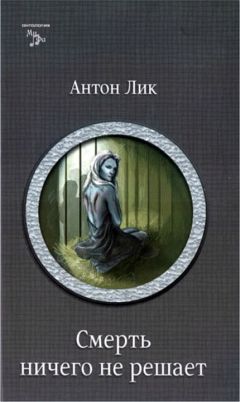В чем провинился толстяк в рваной хламиде, она не поняла. Проворовался ли, по глупости ли рассорился с городским управителем, но умирал он достаточно долго, чтобы искупить любую вину. Когда же, убрав изуродованные останки, на помост втащили женщину, Элья закрыла глаза. Так и стояла, вцепившись в спинку Ырхызова кресла.
Потом женщину сменил парень, по виду однолеток тегина, а следом — девушка, почти девочка, если Элья что-то понимала… Вернее, она ничего не понимала, ибо в происходящем не было логики, лишь варварская жестокость, привычная и вековечная, судя по толпе зевак. Нет, они не радовались мучениям толстяка, не орали в восторгах, когда с парня сдирали очередной шмат кожи. Они просто наблюдали за происходящим, и одинаковая обыденность отражалась на лицах нойонов и физиях свинопасов, привычка читалась в глазах кунгаев эскорта и местных пейзан. И похоже, неизбежность происходящего была очевидна всем.
Впрочем, девушку Ырхыз пощадил. Кажется, она присоединилась к обозу, найдя приют в возке циркачей.
— Одной шлюхой больше, — обмолвился хан-кунгай Морхай, начальник охраны Ырхыза.
— Тегин милосерден, — тихо произнес Кырым.
И словно эхом его слов понеслись над толпой крики харусаров:
— Милосерден тегин волею Всевдящего! Милостив!
— Милосерден! Милостив тегин! — отражала и множила крик толпа. Нойоны-наир лишь слегка шевелили губами по привычке, а простой люд отчаянно надсаживал глотки, затягивая. — Мииилосеееерден!
Этим все и завершилось.
Так нужен ли мир этой земле? Элья не знала. Они же воюют даже без войны. Они бездумно и бесцельно уничтожают друг друга, руководствуясь какими-то совершенно чуждыми разуму правилами и обычаями, повинуясь суевериям или собственным прихотям, каковой и являлось то самое милосердие Ырхыза.
Ближе к вечеру настроение тегина переменилось. Теперь Элья ощущала эти перемены, как некогда приближение грозы. Не слова, не жесты, не взгляд, но что-то совершенно иное, неосязаемое. Привкус ежевики на кончике языка, легкое покалывание подушечек пальцев и зудящие лопатки. Да, пожалуй, лопатки — самый верный признак.
— Эге-ге-гей! — Ырхыз подхлестнул коня, вырываясь вперед. — Догоняй!
Она догоняет, и два десятка закованных в металл кунгаев тоже. И если Элья не удержится в седле, они вряд ли остановятся, скорее уж втопчут в закостеневшую с морозов землю. Поэтому надо держаться, прижаться к скользкой шее, вцепившись руками в желтую гриву.
Треклятый мальчишка! Если свернет себе шею, то заодно и ее похоронит. Кому она будет нужна, кроме как для вскрытия?
А Ырхыз оборачивается, машет рукой и откидывается назад, почти ложась на конский круп. Что он делает? Сумасшедший!
— Мой тегин! — крик Морхая утонул в грохоте. — Ясноокий!
Выпущенные поводья, руки в стороны, почти как крылья. Взлетит… Не взлетит: конь переходит из галопа на рысь, позволяя догнать… И на шаг.
— Мой тегин. — Морхай решительно схватил жеребца под уздцы. — Вы подвергаете себя опасности.
— Да пошел ты! — Ырхыз, замахнулся было плетью, но не ударил. Лицо его вдруг побледнело, рука разжалась и, покачнувшись в седле, тегин схватился за голову.
— Элы? Элы!
— Я здесь!
— Здесь, — повторил Ырхыз. — Ты здесь. И ты тоже. Зачем он тут? А Кырым где? Нет, не нужно, не зовите, не хочу. Элы, ты должна быть рядом. Всегда!
— Мой тегин. — Кырым, несмотря на возраст, весьма ловко держался в седле. — Всё ли в порядке?
— Да, — Ырхыз был бледен, но, кажется, себя контролировал. — У меня все в полном порядке, кроме идиотов, которые не способны оставить своего тегина в покое.
— Прошу премного простить за назойливость, но мне кажется, что вам необходим отдых.
— Нет.
— Да. Впереди Ашарри, где ханмэ — многоуважаемый Таваш Гыр, который будет безмерно оскорблен, если ему не окажут честь. К тому же после вчерашнего суда в его ханмате лучше будет…
На мгновенье Элье показалось, что тегин всё-таки ударит — выражение лица у него было бешеное — но нет, сумел справиться и, кивнув, бросил:
— Хорошо.
— А ей лучше бы остаться в обозе.
Ырхыз кивнул, и только тогда по знаку хан-кама Морхай вернул поводья. Движение по тракту возобновилось.
— Слава! — орут глашатаи, хлопают на ветру штандарты, ревут обозные волы и в этом обилии звуков тонет Ырхызово:
— Ненавижу.
Ашарри стоял на холме. Высоко вздымались серые стены, подпирали небо круглые башни, чернел водой глубокий ров. Продолжением тракта гляделся подъемный мост, перед которым в ожидании замерло десятка два конников под сине-белыми штандартами. И вновь загудело:
— Слава тегину!
И отозвались хозяева:
— Слава!
— Элы, ты рядом будь. Слышишь? — велел тегин и, приподнявшись на стременах, отсалютовал встречающим. — И да пребудет милость Всевидящего с этим домом!
— Да пребудет, — пророкотал рослый бородач в доспехе с латунными инкрустациями. Надо полагать тот самый Таваш Гыр, хозяин замка.
Ханмэ, правильно говорить Таваш Гыр, ханмэ Ашарри. Замок и его хозяин — одно слово. Такое вот смешение. Путаница.
Они похожи настолько, насколько могут быть схоже живое с неживым. Гыр угловат, неповоротлив, словно под тегиляем скрывается не плоть, но серый камень, тот самый, из которого сложены стены замка. И лицо тому подтверждением: грубо стесанные скулы, низкие, выдающиеся вперед надбровные дуги и острая переносица, перечеркнутая глубоким шрамом. И чересчур смуглая даже для местных кожа лишь усиливает ощущение ирреальности. Камень, который притворился человеком. Внимательный: заворочался, зашарил взглядом по разноцветной толпе, выискивая того, кто не смотрит, но рассматривает. Элья, надвинув капюшон, прижалась к конской шее в смутном желании избежать чего-то, что еще не произошло.
А беспокойный людской поток уже пробирался сквозь ворота.
Внутренний двор замка был просторен и ухожен. К приезду тегина снег расчистили, и каменные плиты блестели свежей ледяной корочкой. Сияли свежей побелкой стены хозяйственных построек, отливала темной зеленью громадина домины, в которой яркими пятнами выделялись витражные окна — богат Ашарри. Отдельно, чуть в стороне виднелась изрядно заваленная на бок узкая башенка из красного гранита, окруженная низким кованым заборчиком. Понорок.
Элья вздрогнула — слишком свежи были воспоминания — и поневоле прислушалась: нет никаких голосов, нет никаких призраков, нет ничего, что бы выдавало ненависть, спрятанную внутри башни. Но она существует, влияет на происходящее.
А вокруг прибывших уже суетились дворовые слуги, подавая нагретые шубы и горячее вино, принимая лошадей, отводя, крича, командуя, добавляя бурления и жизни человеческому водовороту.