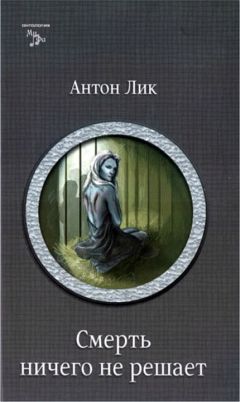«…дня съехали с Бештиной усадьбы кам прежний, а с ним рисовальщик со всем скарбом и кхарнский юнош»
Дед выронил стило, закашлявшись, и отходил от приступа долго, то и дело сплевывая в побитую миску слюну. После чего продолжил:
«…юнош, которого благороднейший Куна из Гыров не единожды прозывал шпионом. И отпускать с усадьбы не хотел, о чем с камом Ирджином лаялся долго, по-всякому того обзывая, но как до дела дошло, перечить не посмел».
На скамье у печи сидел Гранька и лопал тушеную капусту с утятиной. Рядом, как квочка, суетилась мать. Впрочем, не забывала она и о деде, подливая в кружку горячего взвара.
«Под то агент Грач доводит, что самолично видел и слышал, как поименованный Тураном кхарнец неоднократно бывал в комнатах у кама Ирджина. Тако же агент Грач видал, того же Турана по выходе из загородки в ночь, когда издохла ящера по прозванию Красная.
На том по Бештнам всё.
Уведомляю, что отсылаю Вестника с последней капелюхой эману и запасов боле не имею.
За сим кланяюсь и нижайше прошу за агента Грача.
Хурдский скороход».
Дед довольно крякнул и, отложив стило, принялся за капусту. Уж больно аппетитно уплетал ее Гранька. Молодец, хороший парень, гордость семьи. Да, не из богатеев, зато и не идиот как Орин, сынок прежнего хозяина Бештины. И здоров, не то, что этот кхарнский дохляк. А ведь по годам — все трое вроде и не далеки. Дед втянул губами капустную нить и глотнул взвара, мысленно сравнивая их.
И то ли задумался крепко, то ли стариковская рука подвела, но поставил он кружку ровно на готовое письмо. Отдернул сразу же да поздно. Горячее донце отпечаталось на воске аккурат вокруг строчек про кашлюна Турана. Будто черная сторона Ока Всевидящего высмотрела именно эти словеса.
Дурное дело. Тянет от этого взварьего пятна вовсе не сушеными яблоками и даже не кровью. Болью тянет и мучениями. Почти как от ног, которых уже тридцать лет как нету.
А Гранька, здоровехонький да с ногами. Да с башкой. Да охотник знатный…
Дед, мысленно поохав о растрате, и, подогрев скребок над лучиной, заровнял воск. Подумал, взялся за стило и вывел новое:
«Третьего дня съехали с Бештиной усадьбы Ирджин, кам прежний, пришлого заместо себя оставивши, а с ним рисовальщик со всем скарбом и кхарнский юнош Туран.
Особливостей в усадьбе более не примечено.
Хурдский скороход».
И еще дед понял, что никогда больше не станет просить за агента Грача.
— Искони самый малый пейзанин кланяется оброком старосте или управителю местному, а те — нойону. Нойоны бьют челом шаду, а шад уже ломает пояс перед самим каганом.
Каган — вот истинное сердце наирэ, в нем сила и мудрость, в нем память крови.
— Тогда где здесь наше место?
— Наше место — с тем, кому единственно одинаково кланяется и захудалый земледелец, и сам ясноокий каган, а именно — со Всевидящим и пред самым оком Его.
Из поучительных бесед хан-харуса Вайхе в приюте при ханмийской бурсе.
Лопасть крыла в конечном виде формируется к концу третьего года жизни, при этом возможны некоторые изменения формы, появление жилок второго и третьего порядка, смена цветовой гаммы. Вследствие чего именно в данном возрасте имеет смысл проводить окончательное определение соответствия и потенциала, дабы избежать нерационального расходования ресурсов общества и ложных надежд отдельных индивидуумов.
«Теория оптимального развития социума», Ларус Ваабе, суб-дренен дьен (крыло: коричневый земляной прим шесть, чистота: 0,79, эман-сродство: 0,44/0,37).
Гулкий удар гонга разнесся над лагерем, распугивая воронье. Зашевелились люди, сворачивая шатры, выводя лошадей, растаскивая сундуки по подводам. Лениво наблюдали за суетой шады, грозились плетьми нойоны. Гремело железо, и колючий снег укрывал проплешины погасших костров.
Запрыгнув в седло, Элья накинула капюшон, пальцами коснувшись короткого ежика волос. Ырхыз, поймав жест, усмехнулся, подмигнул и поднял руку, уже не ей — Морхаю, а тот, повинуясь приказу, поднес к губам турий рог. Сейчас подаст сигнал, и два десятка кунгаев-конников в гладких панцирях двинутся неспешной рысью. Взлетят над трактом штандарты и флаги, и охрипшие к десятому дню пути глашатаи заведут привычное:
— Слава тегину!
И потянется вереница конного люда, запряженных волами повозок да отяжелевших от позолоты карет.
Чем дальше уходили от Ханмы, тем меньше людей собиралось на обочинах тракта. Тише становились приветственные крики, мрачнее лица, беднее одежда, и лишь по-прежнему тянулись руки, выпрашивая подаяние. Уродлив был край. И снежная белизна не скрывала ни нищеты, ни грязи.
Слава тегину… Любят ли его? Или отрабатывают повинность, изображая любовь? Надеются. На что? На мир, который должен подписать этот странный человек? Безумный, беспечный, он норовил вырваться из-под плотной опеки и ненавидел навязанную стражу. Должно быть, видел в ней вовсе не защиту.
Элье полагалось быть рядом: не приказ, не требование — желание. Но тегину не стоит отказывать в его желаниях.
— Надо что-то делать, — сказал Ырхыз однажды. — Ты же видишь, что тут творится?
Она видела. Повешенных с табличками на груди. Замерзших в снегу. Видела поеденных зверьми. Сожженных и забитых камнями слепцов. Хорошо запомнила старуху с бельмами на глазах, которая выскочила на дорогу скуля и воя, а следом за нею — стая псов, и видела как стража Ырхыза заслонялась от старухи щитам и ждала, не пытаясь вмешаться. Помнила, как потом, когда вожак, волчий метис, отвел стаю, те же стражники споро закидывали тело еловыми лапами. Кырым разливал поверху огонь, а харус заунывно читал молитву, брезгливо поглядывая на торчащую из веток руку с разгрызенными пальцами. А потом шипело и воняло. Хороший огонь у камов, злой. Посольство ждало и двинулось дальше, лишь когда на земле осталось смолистое пятно.
После того случая Ырхыз остаток дня молчал, и ночью не ложился, ходил по шатру, раздраженный, готовый сорваться, но сдерживающий себя. Тогда Элья не решилась спросить, чем же так не угодила старуха.
А поутру на пути попался возок с бродячими циркачами, которые развеселили тегина. Те циркачи до сих пор плелись где-то в хвосте поезда. Старуха же будто позабылась, равно как и городок, что вчера остался позади. Там Ырхыз почтил своим присутствием казнь, и Элье вновь пришлось быть рядом, сдерживая позывы тошноты, правда, уже весьма редкие.
В чем провинился толстяк в рваной хламиде, она не поняла. Проворовался ли, по глупости ли рассорился с городским управителем, но умирал он достаточно долго, чтобы искупить любую вину. Когда же, убрав изуродованные останки, на помост втащили женщину, Элья закрыла глаза. Так и стояла, вцепившись в спинку Ырхызова кресла.