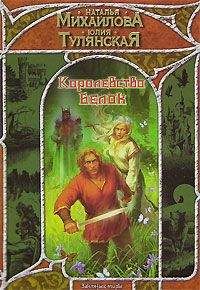Около полудня у Иллессии начались первые схватки. Зоран отвел ее в лазарет. Ирица собиралась принимать роды. Она ни разу в жизни не видела, как появляются на свет человеческие детеныши, но знала, как это бывает у зверей — и понимала, что когда-нибудь и ей самой предстоит то же.
Последнюю неделю Зоран тревожно посматривал на лесовицу. Он и надеялся на нее, и не был вполне уверен, что она сделает все, как надо. В конце концов Зоран решил, что сам будет помогать при родах.
— Я в своей жизни столько крови повидал, что не испугаюсь, — заверил он.
Ирица не слыхала о человеческих обычаях на этот счет. А вот Илла удивилась изрядно. Привстав и опираясь на локти, пытаясь шуткой заглушить боль, Илла подмигнула Зорану:
— Значит, ты смелый? Обычно мужики как зайцы разбегаются. У нас в Богадельне как было? Сожительница рожать, а мужчина в кабак. Пока она прокричится, он столько успеет выпить! Соседки уже знают, где искать потом такого — надо же сказать, сын родился или дочь. Трусы они все, — добавила Илла сквозь зубы и умолкла совсем, взявшись за живот.
Началась очередная схватка. Когда она прошла, Илла продолжала.
— Ну, это цветочки, Зоран, потом страшнее будет… но ты не уходи, ладно?
Часа через два схватки стали настолько сильными, что Илла уже не находила себе места. Она то порывалась встать и ходить, — ей казалось, что так будет легче, — то снова лечь.
— Еще нескоро, — сказала Ирица Зорану: она это чувствовала.
Но Илла не кричала. Она лишь затихала, сжимала зубы и смотрела остановившимся взглядом. Ирица заставила подругу лечь на бок и растирала ей поясницу. Иллесии делалось легче. Но когда накатывала новая волна боли, Илла стискивала обеими руками руку Зорана, сидевшего около нее.
Наступил вечер, потом ночь, а Илла все не родила. Забегал Берест — спросить у жены, не нужно ли чего. Она его прогнала.
Ирица чувствовала, что ребенок идет правильно — головой, но медленно, а Илла уже устала. Пока шли частые схватки, Иллесии не хватало даже минуты, чтобы перевести дух, но она по-прежнему не кричала, только кусала губы, а потом начала петь обрывки уличных песенок.
Илла в глубине души боялась, что Зоран растеряется, смутится и в последнюю минуту сбежит. Но Зоран оставался рядом, держал ее за руку, и на его лице не было ни страха, ни растерянности. Когда схватки ненадолго утихали, Илле становилось смешно, как он глядит на нее — измученную и растрепанную — растроганным взглядом.
Только к утру мокрая от пота, совсем обессилевшая Илла, так ни разу и не крикнув, с трудом родила девочку. Ирица перерезала пуповину, Зоран сам обмыл ребенка и завернул в чистую ткань.
— Уф! — фыркнула Илла, как только Ирица помогла ей лечь поудобнее, сменила под ней холст и накрыла ее чистым одеялом. — А что за девчонка, дайте хоть посмотреть?
Зоран осторожно и бережно поднес ребенка, сел рядом и положил девочку Иллесии на сгиб руки.
— Ух, какая, — Илла вгляделась в лицо младенца, но оно было невыразительным, как у всех новорожденных. Было только ясно, что девочка, в отличие от матери, не «черномазая». — Ты молодец, Зоран! — у Иллы на глазах впервые показались слезы. — Ты еще любишь меня?
Зоран с надеждой посмотрел на нее.
Илла с трудом подняла руку и погладила его по косматой щеке.
— Зоран, я тебя правда люблю.
Дочь Иллы была первым ребенком, родившимся в Пристанище. Ее назвали в честь матери Зорана — Яриной. Когда Илла окрепла после родов, в зале с камином накрыли стол. Это была свадьба Иллы и Зорана и праздник в честь рождения их дочери.
Кроме фруктов и овощей, которые созрели в достатке, на столе были только тонкие лепешки из оставшейся с зимы муки: нового зерна еще не обмолотили. После пожаров и грабежей в подвалах уцелело несколько бочек вина. До сих пор вино берегли для больных. Но теперь Ирица с другими женщинами расставляли на столе высокие глиняные кувшины.
Иллесия с черными волосами и глазами, в ярком красном платье, которое сшили они вместе с Ирицей к празднику, казалась совсем юной, и было странно видеть у нее на руках новорожденную дочку. Она вынесла показать ребенка, а потом уложила спать и вернулась к столу.
Зоран коротко остриг бороду. Роскошная седая грива рассыпалась у него по плечам. Иллесия посматривала на него с нежностью и с гордостью. Когда-то Зоран ей говорил: «У женщины, которую ты любишь, слово имеет силу заклятья. Скажет она: „Ты хромой бродячий пес“ — и будешь псом всю жизнь. А скажет: „Ты прекрасный витязь“ — и будешь прекрасным витязем». Илла тогда со смехом ответила: «Ну, всякая девчонка захочет с прекрасным витязем жить, а не с бродячим псом. Так что если она не дура, то и назовет, как надо». Но теперь, вспомнив этот разговор, она глубоко вздохнула.
Ирица тихо переговаривалась с Лин. Они подружились после той ночи, когда девушку напугал Вестр. Лин спрашивала, что такое свадьба, но Ирица мало что могла рассказать: они с Берестом просто однажды назвали друг друга мужем и женой на берегу реки.
К праздникам в Пристанище никто не привык. Бывшие рабы сидели тихо и робко, почти не переговариваясь. Они не до конца понимали, что происходит. Только дети высших как будто вернулись в прошлое, когда в Доме Воспитания устраивались торжества.
Негромко перебирал струны лютни Энкино. Бывший актер нашел ее в одном из покоев замка и настроил. Эльхи сидела рядом. Между ними завязалась какая-то особенная дружба: молодой наставник вызывал у Эльхи такую искреннюю любовь и восхищение, что она ни на минуту не выпускала его из виду.
Энкино придержал рукой струны.
— Сестрица! — окликнул он.
Иллесия улыбнулась:
— Тебе что, братец?
Энкино давно уже улыбался редко, и сейчас он сказал очень серьезно:
— Зоран на днях говорил со мной о тебе. Он просил меня рассказать тебе о его любви. Я не думаю, что расскажу лучше него самого. Но Зоран хотел, чтобы я нашел какое-нибудь особое выражение, например, в стихах или в песне. Я искал, что бы спеть, и случайно вспомнил одну народную песню. Она словно нарочно придумана для вас.
— Про нас? — удивленно и радостно спросила Иллесия. — А что за песня?
— Про девушку, которая ждет своего милого, — сказал Энкино. — Ну, как это часто в народных песнях… Я ее перевел, не судите строго.
Энкино когда-то мастерски владел и голосом, и инструментом. Теперь его руки огрубели, и он давно не пел. Из-за этого песня была простой, без прикрас:
Дует северный ветер, мне гладит висок он,
Я южанка, и кровь у меня, как огонь, горяча.
Мне не холодно, только прошу: «Расскажи, где мой сокол?
Он, как ты, родом с севера. Там ты его не встречал?»
Сокол мой улетел, и все время дул ветер,
Ветер северный дул, все надели из шерсти плащи.
И замерз виноград, и замерзли оливы до смерти,
Мне не холодно, ветер, ты только его отыщи.
Он из ветра придет, из дождя, из метели.
Он одет по-дорожному, снег на его волосах.
Он расскажет потом, как они вместе с ветром летели,
И как холодно было в просторных, пустых небесах.
А весной полыхали цветами гранаты.
А оливы созрели сегодня, когда ты пришел.
Я в кувшине вина принесу, соберу винограда.
Хочешь, розы и белые мирты поставим на стол?
Он из ветра придет, из дождя, из метели,
И пчела зазвенит, заблудившись в его волосах.
Я спою для него о снежинках, что ярко блестели
В хмуром небе его — и блестят в его серых глазах.
Когда Энкино замолчал и опустил лютню. Иллесия, обнимая обеими руками тяжелую голову своего мужа, шепотом обещала ему: