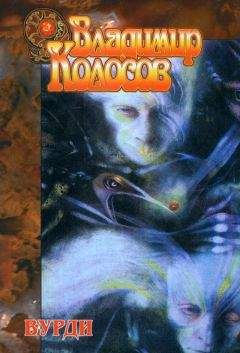— Он в лесу, — сказала Ай-я догорающему в печи огню. Огненно-красный язык согласно лизнул приоткрытую дверцу.
— Он не вернется, — сказала Ай-я, и огонь в печи возмущенно загудел.
— Он — человек, — безразлично сказала Ай-я и наконец услышала обращенный к ней даже не голос — лишь легкое дуновение невесть как прокравшегося в избу сквозняка:
— А ты?
— Вурди, деточка… — прошамкала со своего табурета старуха. Ай-я вздрогнула.
— Да, — пробормотала она, ибо отпираться было бессмысленно — слишком уверенно говорила Гергамора, да и страха перед вурди в ее голосе не чувствовалось вовсе. Одна лишь усталость. И еще, пожалуй (или это только показалось Ай-е?), какая-то затаенная боль. «Ну, вот и все», — подумала женщина, подивившись тому, как вдруг легко стало на душе. Будто приоткрылась потаенная дверца, а за ней… Другая жизнь. Другое солнце. Небо. Судьба. Ай-я тихо хихикнула, тут же отметив про себя, что даже смех этот тоже оттуда, из-за потаенной дверцы, не очень-то приятный смех, но ее, Ай-и, и теперь уж не имеет смысла скрываться., нет, скрывать его от самой себя… «Как это просто, — подумала Ай-я. — Да. Как это легко и просто. Всего-навсего быть собой». Она тряхнула головой, и волосы лесной травой рассыпались по ее плечам. «Мама! Милая, милая мама! — с какой-то необыкновенной нежностью промелькнуло в ее голове. — Это ты, ты. Ты скрывалась. Пряталась. Мучилась всю жизнь. Так неужели ж и я? Я?.. Не хочу!» — мысленно воскликнула Ай-я. Ей вдруг захотелось выскочить из избы в чем есть, и не важно, что на улице мороз, и плакать, и кричать на весь свет.
Но вместо этого лишь тихо прошептала:
— Что ж, пускай он придет. Узнает…
— Тсс! — Старуха приложила палец к губам.
Ай-я удивленно посмотрела на нее.
— Чего уставилась? — ласково прошамкала Гергамора. — Вот ведь, знаю теперь. Только другому-то знать ни к чему. Верно я говорю? А может, ты уж и зубки свои на меня, старую, точишь, а?
1Это не было болью.
Чьи-то руки бесцеремонно ощупывали тело. И не столько ощупывали, сколько нагло тискали, мяли, били по рукам, по ребрам, по голове… Больше всего доставалось щекам; щек Гвирнус не чувствовал, но понимал: да, именно по щекам и били прежде всего. Кулаком, ладонью, чем-то невероятно твердым, вроде застежки на широком охотничьем ремне. И уж само собой, задубевшей на морозе кожей. Лыжной палкой. Твердой как камень рукавицей. А может быть, и просто камнем. Палкой. Ногой. Голова в такт ударам чужих рук подавалась то вправо, то влево, и что-то мягкое, водянистое плескалось в ней — плюх, плюх, — отдавая тупой болью в затылке…
Впрочем, и это не было болью, а было лишь слабым отголоском боли, ее эхом, мелкой рябью, оставшейся после брошенного в воду камешка, настолько мелкой, что лишь легкий поплавок рыболова и мог приметить ее. «Да, рыболова», — вдруг всколыхнулось затухавшее было сознание, и как раз в этот момент очередной удар сотряс голову: зубы Гвирнуса лязгнули, прихватив кончик языка, и тогда он впервые почувствовал не эхо, не рябь — боль? Язык обожгло нестерпимым жаром, жар хлынул в голову. Он был настолько сильным, что нелюдиму показалось: еще мгновение, и голова вспыхнет как факел; что-то нестерпимо горячее ударило в нос — уф! — Гвирнус напрягся всем телом и выдохнул из себя этот жар, одновременно почувствовав странные удары в груди — били не извне, били изнутри, и эти удары казались ему куда чувствительнее, чем прежние, потому что каждый из них приносил новые вспышки жара сначала где-то под левой лопаткой, потом под правой, потом в горле, в животе, в том, что еще недавно было руками и ногами, и, наконец, во всем огромном холодном куске мяса, которое еще совсем недавно было Гвирнусом, а теперь…
Теперь просыпалось вновь, потому что, когда его в очередной раз ударили по щеке, он открыл глаза (так ничего и не увидев, кроме ослепительной белизны), открыл рот и, едва ворочая непослушным языком, выругался:
— Вот я сучки-то тебе пообломаю!.. Тьфу!
Далее был сон.
Но сна Гвирнус не запомнил, зато хорошо запомнил скрип снега, шуршание лыжных полозьев, непонятно откуда знакомый запах, исходивший от того, кто с каким-то непонятным упрямством волок непослушное тело нелюдима по рыхлому снегу, ворча, ругаясь, то и дело останавливаясь передохнуть. На остановках Гвирнус засыпал, но долго спать ему не давали: всякий раз, прежде чем двинуться в путь, его неизвестный мучитель принимался за прежнее — удары сыпались на охотника один за другим. И уже не жар, а самая настоящая боль заставляла Гвирнуса очнуться; стоило же ему хоть немного прийти в себя, непослушный язык извергал целые потоки ругательств, которых, похоже, и ждал его мучитель, поскольку тут же в ответ раздавалось довольное кряхтение и неприятный скрипучий голос бормотал:
— Живучий, вишь. Так-то, не спи.
И они снова двигались в путь.
Снова шуршали полозья. Поскрипывал снег. Ворчал неведомый мучитель: «Вот ведь какой тяжелый… Ведмедь да и только. Ругается еще». Снова хотелось спать. Где-то в глубине сознания Гвирнус понимал, что спать нельзя; однако не так-то легко было противиться сладостной дреме, поэтому во время движения нелюдим старался приметить всякую мелочь, будь то тяжелое сопение впереди, уханье филина или же глухое журчание пробившего себе дорогу под снегом ручья. Везли Гвирнуса на чем-то вроде вязанки хвороста, лежать было неудобно, хворост вяз в глубоком снегу. Заваливался куда-то вбок. Охотник падал лицом в снег и, не в силах пошевелиться, ждал, когда чужие руки уложат его обратно.
Чужие руки укладывали.
Чужой же язык при этом бормотал чуть ли не в самое ухо:
— Вот ведь! Возись тут с тобой. И так жрать нечего… Разве что волчатину твою… Где шатался-то? После того, как волков… Ай-я пол-леса обегала. Два дня, говорит, как нет. Таисья все уши прожужжала. Вишь, в лес погнала… А он… Хорошо, не замерз…
«Кто это? — думал про себя нелюдим. — Таисья? Какая Таисья?»
— Лай, ты?
— Я, а то кто же?
— Лай?
— Ну?
2Он снова спал.
А может, и не спал, потому что отчетливо ощущал, как тают на лице редкие снежинки, как гулко стучит в груди сердце, как напряжена спина волочившего его охотника.
Лая.
Того самого, чьи стрелы бродяга отшельник выбросил в костер, потому что…
Он — вурди.
Да, он, Гвирнус, видел вурди.
Эта мысль обдала нелюдима жаром, охотник неловко дернулся на своем жестком ложе — тело не слушалось; но Лай почувствовал его движение, резко (слишком резко) обернулся: