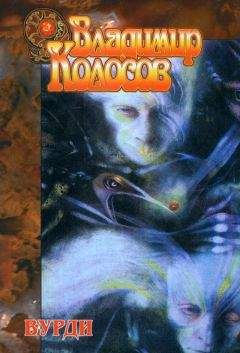— Очнулся?
Взгляд настороженный, злой. И лицо.
Странное какое-то. Пустое. Что-то у него было. С лицом.
Сердце нелюдима дрогнуло — он поспешил закрыть глаза.
«Да. Я сплю».
Снова открыл их, стараясь смотреть куда угодно, только не на это лицо.
— Лай?
— Вот заладил: «Лай, Лай». Женке моей спасибо скажи. В жизнь бы перед праздником в лес не пошел. — Голос охотника звучал успокаивающе. Но Гвирнус не верил этому голосу.
«Праздник? Какой праздник? Ах да! Солнцеворот. Врет», — неожиданно понял нелюдим.
— Тьфу! — сплюнул тащивший его охотник. — Два дня невесть где шлялся. Не помнишь?
— Нет.
— Сам идти сможешь?
— Не…
— Вот заладил: «нет, нет», — усмехнулся Лай. — И как меня на чем свет клял, не помнишь? Стрелы-то тебе, вишь, мои с чего не подошли?..
— Стрелы?
С головой Гвирнуса творилось что-то неладное. Стрелы. Да, отец говорил, что… Но ведь так и не проверил их нелюдим. Не успел. Или проверил? Два дня… Волки… Волков Гвирнус помнил. Керка. Зовушку. Стаю. На обратном пути… Неужели два дня?! Что же он делал эти два дня? Бегал по лесу? Не может быть. Человек в беспамятстве, да еще в голодное время… Славная добыча… Или все-таки бегал? А лес по-прежнему кружил, вот он и… Плутал? Целых два дня?! Не может быть! А Лай? Как его нашел Лай?
— Гляжу, лежишь, — донесся откуда-то издалека голос охотника. Он снова тащил нелюдима — вязанка двигалась резкими рывками. — Вроде как и не дышишь даже. А до этого-то я ведь слышал. Будто зовет меня кто-то. Тихонько так. Хрипло. Голос-то на твой нисколько и не похож вовсе. Ну, думаю, хоть не одному тащить. Ан нет. Этот-то, с голосом, как сквозь землю провалился. Послышалось, что ли?
— Лай!
Не оборачивается. Не слышит.
Нет, неспроста его нашел именно Лай.
Гвирнус вдруг почувствовал острый приступ страха.
Сейчас.
Сейчас Лай обернется.
«Уф!» В голове нелюдима вдруг вспыхнуло яркое солнце… И уже растворяясь в нем, Гвирнус понял, что именно так напугало его.
У тащившего его охотника не было человеческого лица.
1
— Он был совсем как человек, этот вурди, — вдруг пробормотала Гергамора.
Ай-я вздрогнула, с недоумением взглянув на старуху:
— Что?
— Вишь как вскинулась. Не думай. Не совсем еще из ума выжила старая карга. Знаю, что у тебя, деточка, в голове. Вернется твой (куда ж он без тебя денется?), а ты и не говори. Придумай что-нибудь, а только правды-то не говори. Не поймет он. И на меня, старую, не смотри. Ну, что не боюсь я тебя. Или что выдам кому… Зачем мне? Вот послушай, кой-что расскажу.
— Некогда мне. Утро на дворе…
— Да ночь в голове, — прошамкала старуха. — Думаешь, коли вот так прознала я, ну, твой секретик глупый, коли с этого на сердце полегчало, так теперь и жизнь по-другому пойдет? Как бы не так! Это только день в поворот входит. А жизнь… Гм! Да и слаба ты еще. Чтобы на улицу-то выходить. Я свое варево знаю. Голова кружится небось?
Ай-я кивнула.
— Пройдет. Я ведь, было дело, чуть замуж за него не вышла.
— За вурди?
Ай-я зябко поежилась, взглянула на пылающую печь. Вспомнила, как еще недавно безразлично говорила пылающему огню: «Он не вернется».
Нет. Не то.
«Он — человек».
Улыбнулась. Осторожно, будто боясь спугнуть севшего на ладонь мотылька. Не мотылька — мышку. Не мышку — такое короткое, такое болезненное счастье любить…
Мужа. Дочь.
Да. Вернется.
Но что будет потом?
Думать об этом не хотелось.
— За вурди? — тихо переспросила Ай-я.
— А я почем знала? — сказала Гергамора. — Всем он был похож на человека, этот вурди. Руки, ноги, голова, даже в штанах, — усмехнулась старуха, — вроде как самое что ни на есть человеческое… Подсмотрела я, дура, как-то, да. Купался он… С лица не красавец, но и не урод. Так ведь красота — дело бабское. А у мужиков по-другому оно. Тут что-то особенное, в лице ли, в глазах должно быть. Разве ж в двух словах объяснишь? В общем, многие на него засматривались. Я-то хоть и мала была, только ведь не настолько, чтобы не видеть — нет другого такого в Поселке. И взгляды его тоже примечала — на меня он смотрел. Посмотрит, усмехнется, в глазах будто искорки пляшут, скажет еще: «Эх, девка, косищу уже отрастила, что же титек нет?» Ну, девка, дело ясное, глазки стыдливо в пол, а сердечко-то аж заходится, до чего к мужику, значит, поближе хочется. Веришь ли, коленки подгибались, когда на меня смотрел. Дело-то оно немудреное, да только мне и двенадцати не было, а я уж знала — быть мне его женой. Славко его звали, — вздохнула колдунья, — хорошим он был охотником, этот никем не узнанный вурди. Может быть, лучшим в Поселке. Мой-то брат, старший, значит, себя лучшим почитал. Да только куда ему! Ни одна лисица не прошмыгнула бы мимо Славко, ни один заяц не ушел бы от его стрелы. А уж когда с охоты приходил — тут чуть не пол-Поселка сбегалось. Коли лосяка молодого приволочет, так прямо посреди Поселка разложит, ножиком хвать — это, мол, самой старой; другой раз полоснет — самой молодой («Кто тут у нас от горшка два вершка?»); ну а третий кусок мне всегда доставался — так уж у него было заведено. Само собой, первая я его выходила встречать… Не спишь? — Гергамора шмыгнула носом. — Кружится еще?
Ай-я не ответила.
Ее и в самом деле клонило в сон. Рассказ старухи сливался в однообразный поток слов, глаза слипались, Ай-я с трудом разлепила пересохшие губы:
— Не сплю.
— Вот я и говорю, — продолжила старуха, — удачлив он был — страсть. Коли ведмедь-шатун какой в лесу объявится — Славко мой тут как тут. Даже лука не возьмет. А уж лосяка или кабанчика подстрелить, будто колдовство какое — сами к нему бегут. Это-то его и сгубило, — крякнула Гергамора. — Ну и то, что с повелителями он якшался… Гм, как-то совсем не по-людски. Другой раз встретит такого оборванца на улице, к себе зазовет, сидят, значит, о чем говорят, неведомо, а потом, глядишь, повелитель-то уж точно и не дармоед-бездельник. Бревнышки в лесу тешет. Со Славко на пару в Поселок тащит. Топориком тюк-тюк, уже избенка справлена. Не одного такого-то он в человеки вывел. Смотрели в Поселке на это косо. А как-то раз возле такой вот избенки рыболова одного нашли. Мертвого, значит. Вроде и ранка-то на шее самая что ни на есть малюсенькая. А ведь ни кровинки в нем. Белый весь. Сначала на зверя какого думали. Тут-то мой старший брат и скажи: мол, знаю я, откуда ветер дует, мол, видел, как тут еще с вечера Славко бродил.
— И что? — встрепенулась Ай-я.
— Ну, сразу-то ему не поверили, — сказала старуха. — Знали люди, не любит мой брат, Тилем его звали, не любит он Славко. За меня, дуру, и не любит. Не такого жениха они с отцом мне желали. Но слова его запомнили. А когда время пришло — оно, вишь, в поселке страху навело — тут-то и пригодился, братцев навет. Мол, из-за Славко, из-за вурди все. Коли он и впрямь вурди. А как проверить? Вестимо, помнили тогда еще — если уж что и выведет вурди на чистую воду, так это кровь…