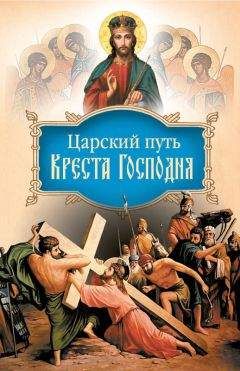«Нет, мы не просто задушим эту разжиревшую на долговых расписках и незаконных пошлинах змею, мы поджарим её на костре. Мы сделаем с тамплиерами — этими надменными столпами католической веры — всё то же самое, что с поощрения Пап делалось самими крестоносцами с добрыми христианами Окситании! — хранитель большой королевской печати удовлетворённо кивал своим, рождающимся перед его мысленным взором замыслам. — Этим мы не только серьёзно расшатаем „Святой“ престол понтификов, но и навсегда дискредитируем саму порочную идею совершения любых — каких-бы то ни было — новых крестовых походов».
Гийом де Ногаре чувствовал, что удачная реализация его замыслов по уничтожению тамплиеров (а он верил в то, что у него всё получится) навеки изменит ненавистный ему мрачный мир религиозной косности и засилья католического клира, сделав его другим — более чистым, светлым и близким к Доброму богу.
«В этом мире никогда и никто больше не будет с гордостью и ощущением обретения полной безнаказанности надевать на себя котту или плащ с нашитым на грудь крестом цвета крови. Время, когда обшитое красными крестами разбойничье сборище, ведомое Симоном де Монфором, стёрло с лица земли цветущую страну с прекрасными, полными духовного величия, красоты и радости людьми, навсегда будет занесено в чёрные анналы мрачных страниц истории. Чего бы мне это ни стоило, но я клянусь, что сделаю всё, чтобы так и случилось, — с каждым новым шагом де Ногаре, сделанным им по направлению к королевским покоям, его внутреннее ощущение того, что он, наконец, сможет с помощью короля Франции начать войну со своим заклятым врагом, укрепляло его решимость. Он шёл, физически ощущая, как сверху, откуда-то из-за облаков, из настоящего мира Доброго Бога, на него смотрят обретшие вечный и заслуженный покой души сотен тысяч безвинно убитых и замученных крестоносцами и инквизиторами его земляков и единоверцев — вознёсшихся из пламени костров на небо жителей беспощадно поруганной кровавой папской ордой Окситании. Это ощущение придавало ему нового вдохновения и духовных сил. — За всё будет заплачено сполна! А ещё мы сделаем так, что жалкий и презренный трус Папа Климент V нам в этом ещё и поможет! Этот слабовольный лицемер сам предаст свой личный орден и этим окончательно откроет глаза всему христианскому миру на всё лицемерие и продажность католической церкви!..»
«О! Вот мы и пришли! Сейчас всё и решится, — до покоев короля Франции его советникам оставалось пройти всего один коридор — в его конце уже показались высокие, украшенные резным орнаментом двери, охраняемые вооружёнными двуручными мечами рыцарями. Завидев их, де Ногаре улыбнулся. Тяжёлые мысли на мгновение покинули его уставшую от напряжённых ночных раздумий голову, морщины на его высоком аристократическом лбу разгладились, а глаза на бледном благородном лице наполнились теплым живым светом. — Меня уже некому посвятить в „Совершенные“, но думаю, что если мне удастся осуществить задуманное, то именно оно и станет моим прощальным Consolamentum, а большего мне — в этом, обречённом на разрушение мире злого бога — ничего не нужно…»
Глава 2
Дорога, где-то в нескольких лье на северо-восток от Парижа, Île-de-France, королевство Франция, весна 1306 года от Рождества Христова.
Как и все остальные дороги, проложенные не мастерами Древнего Рима, а просто наезженные колёсами неуклюжих крестьянских телег и повозок вездесущих торговцев, протоптанные копытами благородных всадников и ногами простолюдинов, эта дорога представляла собой жалкое, размытое дождями и намешанное до состояния вязкой грязи зрелище.
Такими же унылыми были и её окрестности. Весенние дожди промыли на дорожных обочинах извилистые канавки, обнажив устилавшие их грязные, залепленные глиной камни, старые, сорванные ветрами ветки и слежавшуюся прошлогоднюю листву. Росшие небольшими жухлыми рощицами деревья, в своём большинстве ещё не украсились почками и были похожи на обугленные столбы давно отполыхавших пожарищ.
Уставшие кони шли медленным, размеренным шагом. Караван начал движение ещё на рассвете, и потому они уже давно требовали надлежащего им отдыха и честно заработанной сытной кормёжки.
Но какой смысл останавливаться ввиду показавшихся вдалеке городских стен, на одной из площадей окружавших город фобуров, когда в прямой видимости уже был и сам Париж? Остановка, конечно, никому бы не помешала, но массивные, тяжеловесные крепостные стены и башни, окружавшие столицу французского королевства, уже можно было различить невооружённым глазом и до конечной цели их такого долгого и столь тяжёлого путешествия — долгожданного Тампля — было уже буквально рукой подать?
Конечно, можно было бы остановиться в какой-нибудь из разбросанных вдоль пути небольших, всего в пару десятков дворов, придорожных деревенек. Можно было бы расседлать лошадей, как следует напоить их и вдоволь задать им хорошего ко́рма. Животные, несомненно, заслужили отдых, да и люди могли бы немного отдохнуть — поесть и размять затекшие от многочасовой езды верхом ноги и спины.
Всё это можно было сделать, командуй он этим караваном единолично. Было бы так — он — Бернар де Торнье — так бы и сделал, но в этот раз такие решения принимал не он…
«И всё же… — с небом творится что-то неладное. Таких чёрных и таких плотных, как корабельная пакля туч, я не видел уже давно. Клянусь нашим святым покровителем Берна́рдом Клерво́ским — грядёт сильная буря, и нам было бы за лучшее её переждать», — двигавшийся в голове отряда рыцарь — могучий и статный, широкий в плечах великан, на полторы головы выше окружавших его братьев-рыцарей, поднял закованную в кольчужную перчатку ладонь и следующий за ним конный авангард остановился.
Рыцарь обернулся к едущему почти вровень с ним такому же рослому, как и он сам, знаменосцу — брату-рыцарю Гуго фон Вайнгартену. Гуго сжимал в правой руке длинное рыцарское копьё с укреплённым на его вершине баннером авангарда. Баннер был белого цвета, с вышитым ближе к древку красным лапчатым крестом тамплиеров. Встретившись взглядом с Гуго, командир авангарда кивком головы передал ему командование. Затем, повернув своего коня, он направил его к середине остановившегося каравана — туда, где развевалось черно-белое полотнище большого орденского «Босеана».
От группы всадников, двигавшихся во главе нескольких десятков закованных в броню и полностью вооружённых конных рыцарей, отделился маршал ордена. Спутать его с кем-либо из других командующих, командиру авангарда было невозможно: в правой руке маршала было копьё с укреплённым на нём трёххвостым чёрно-белым баннером, на котором, один за другим, располагались три красных лапчатых креста — отличительный знак его высокого положения.
Повинуясь своему властному седоку, вороной маршальский конь сделал несколько шагов в сторону изъеденной дождевыми канавками обочины и замер.
Бернар де Торнье подъехал к маршалу. Поравнявшись с ним, он склонил голову в почтительном поклоне и после ответного кивка с его стороны, обратился:
— Монсеньор-маршал!..
— В чём дело, брат Бернар? Почему мы остановились? Ты почувствовал какую-то опасность? — голос маршала, раздавшийся из-под его закрытого большого шлема, поверх которого был укреплён трёхцветный — черно-бело-красный — бурлет с белым намётом, был глухим, но совершенно спокойным.
Причина этого спокойствия была очевидной: даже придумай себе какой-нибудь из местных сеньоров польститься на очевидно богатую добычу — вряд ли у него из этой затеи что-то толковое получилось бы. Во всяком случае — не в этот раз и не с этим караваном.
Их караван представлял собой длинную вереницу больших, крытых полотняными навесами повозок. Большинство их них было тяжело нагружены, о чем свидетельствовали глубоко увязающие в колее колеса и тяжелый шаг тянущих их лошадей и мулов. В том, что такой лакомый кусок хотелось бы оторвать многим, сомневаться не приходилось, да вот только, решись кто-то это сделать, он должен был бы всё хорошенько обдумать и как следует взвесить, поскольку для любого, напавшего на караван тамплиеров лиходея, он был очень трудной и опасной добычей.