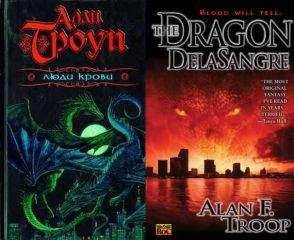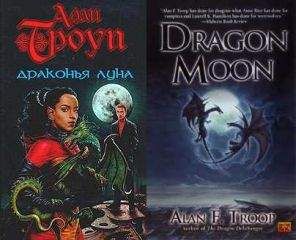– Все хорошо? – шепчет Мария.
Корица и гвоздика… этот аромат щекочет мне ноздри. Сердце пускается вскачь. Сделав над собой усилие, отвечаю ей: «Конечно». Жду, пока аромат растворится в воздухе, исчезнет. Но он не пропадает, а, наоборот, крепнет с каждым новым дуновением ветра. И я вдыхаю его. Я не в силах ему сопротивляться. Так, наверное, чувствует себя зверь, попавший в ловушку. Я весь напрягаюсь, цепенею. Мария, которая истолковывает это по-своему, отодвигается немного и говорит:
– Может, подождем немного… не сразу?
Я что-то сдавленно рычу в ответ, тоже отодвигаюсь от нее, но желание мое только возрастает. Меня ломает и крутит. Это начинается перевоплощение. Если запах в ближайшее время не исчезнет, я потеряю над собой контроль. Тону в корице и гвоздике. Кожа на спине уже грубеет и твердеет. На лопатках набухают крылья. Мария напрягается в моих руках. Мне невыносима мысль о том, что Она увидит, какой я на самом деле. Не хочу слышать ее воплей, не желаю видеть неизбежной гримасы омерзения на ее лице. Не могу допустить, чтобы она умерла, парализованная ужасом, или всхлипывая и умоляя меня о пощаде.
Тело мое терзают и мучают. Прорезаются крылья, подбородок расширяется. Я в последний раз обнимаю Марию. Она снова расслабляется, успокоенная моим объятием. И тогда я утыкаюсь ей в шею и слегка прихватываю кожу губами. Она блаженно вздыхает. Я держу ее в объятиях еще несколько последних секунд, а потом… смыкаю челюсти.
Мария вздрагивает, чтобы тут же обмякнуть. Мой рот полон ее крови. Я слышу громкий всхлип. Сначала мне кажется, что это она всхлипнула, но нет, она умерла мгновенно, как я и хотел. Снова слышу всхлип и на этот раз понимаю, что плачу я сам. Всю жизнь я сожалел, что не родился обыкновенным человеком. Сегодня впервые я возненавидел страшное наследство, которое получил от своих предков. Комната тонет в запахе корицы и гвоздики. Я скатываюсь с кровати и превращаюсь в то, что я есть на самом деле.
Боль и облегчение, стыд и освобождение. Хочется завыть от горя, но вместо этого из моей груди вырывается рев. Моя кожа делается все толще и жестче, расслаивается и наконец обретает свой настоящий вид и цвет. Теперь мое тело защищает темно-зеленая чешуя. Снизу она в два раза толще, чем на спине.
Отец уверяет, что я уже достиг зрелости: восемнадцать футов от носа до хвоста. А размах моих крыльев вдвое больше. С облегчением разворачиваю крылья, но не до конца – мешают стены. Потолок высотой в двадцать футов не дает мне подняться в полный рост на задних ногах, так что я подползаю к кровати на четырех и смотрю на неподвижное тело Марии и лужу крови рядом. Горе переполняет меня, и я снова издаю отчаянный рев.
– Питер? – просыпается отец.
– Отстань!
– Это девушка? И когда ты отучишься переживать за них? Ты придаешь им слишком большое значение…
– Оставь меня в покое, отец! У меня дела. Потом поговорим.
– Питер! Они ведь всего лишь люди.
И тогда я просто отключаюсь от него, закрываю для него свое сознание. Знаю, что отец разозлится на меня. Я такого никогда себе не позволял. Ничего, придется ему на сей раз проглотить это! Запах корицы возвращается, смешивается с запахом свежей крови, и я начинаю кружить по комнате, обуреваемый одновременно похотью и голодом. Приближаюсь к мертвому телу на кровати, снова отхожу от него… Наконец голод побеждает, закрыв глаза, я в очередной раз подползаю к телу и… жадно насыщаюсь. Наевшись, вытягиваюсь на полу и разрешаю себе задремать.
Еще затемно я пробуждаюсь от тревожного сна, полного ужасных образов, переходящих один в другой. Дышится легко. И никаких корицы и гвоздики. Я жадно, большими глотками пью этот свежий воздух, как будто пытаюсь очистить свои легкие от следов того странного и жестокого запаха. Заставляю себя взглянуть на растерзанный труп Марии. Дрожь пробегает по моему телу, и я отворачиваюсь. Душу переполняют печаль и тоска, чувство вины и стыд. Я приказываю своему телу снова стать человеческим. По крайней мере, будучи человеком, я могу оплакать ее. И вот я сижу рядом с поруганными останками Марии, на краешке постели, и плачу. Слезы текут по моей груди, испачканной кровью.
Я успокаиваюсь к рассвету. Надо многое сделать. Отец учил меня презирать человеческие слабости.
– Мы имеем право жить так, как хотим, – не единожды говорил он мне,- потому что мы богаты.
Несмотря на то что мы сейчас обладаем значительными денежными средствами, казначейскими билетами, облигациями, капиталами, огромными депозитами, и все это ежедневно дает проценты (спасибо нашим юристам и консультантам – простым смертным) и наше состояние неуклонно растет, отец все-таки считает, что часть наших сокровищ мы должны добывать сами.
На глаза вновь наворачиваются слезы, когда я снимаю с Марии швейцарские часы, вынимаю золотое колечко из пупка, снимаю с пальца кольцо, наверное подаренное ей на окончание школы, и еще несколько колечек сомнительной ценности. Еще мне достаются штифтовые сережки с бриллиантиками и медальон в виде цветка клевера. Все это я складываю горкой на ночном столике. Потом отнесу вниз, в нашу сокровищницу, туда, где хранится золото, серебро и все драгоценности, собранные нашей семьей с тех пор, как она существует.
Я собираю также одежду Марии, вдыхаю ее запах, который все еще хранят вещи, и складываю их на полу у дверей. Потом поднимаю с пола ее маленький матерчатый кошелечек, вытряхиваю мелочь и с удивлением обнаруживаю триста восемьдесят семь долларов. Деньги отправляются в один из ящичков платяного шкафа, кошелек летит к одежде. Прежде чем швырнуть его туда, я бросаю взгляд на лежащие внутри фотографии. Кто эти люди? Будут ли они скорбеть о ее кончине? Одна фотография обращает на себя мое внимание. Мария в купальнике-бикини, чуть моложе, чем она сейчас, сидит на палубе катамарана. Ее обнимает молодой мужчина с пронзительными черными глазами и пышными усами. На нем только плавки. На заднем плане белый в желтую полоску парус. Меня пронзает ревность. Я ненавижу этого человека. Потом, разглядев, как они похожи друг на друга, понимаю, что это, должно быть, Хорхе. Я даже краснею: ревновать к брату!
Швыряю бумажник и фотографии на груду одежды. Еще до исхода дня все это превратится в пепел. А пока в мою комнату пробирается солнце и освещает труп на моей кровати. Я беру Марию на руки и, содрогаясь от безжизненности ее тела, со слезами на глазах несу ко второй двери, ведущей в темную глубь дома. Будь она жива, я показал бы ей широкий коридор, опоясывающий большую винтовую лестницу, к которой есть выход из всех комнат дома. Теперь, не поднимая глаз, я иду по коридору к тяжелой дубовой двери, ведущей в комнату отца