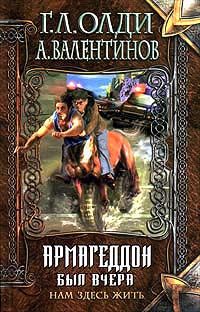— Скажу, — отвечаю. — Сейчас скажу. Только яичницу поджарю.
Яиц десяток я тоже с собой принес. Забрал их из сумки — одно треснуло, зараза, но не потекло вроде — и пошел на кухню. Сковородка у Ерпалыча почему-то в холодильнике стояла. Пустая, чистая и под самой морозилкой. Вынул я ее, на плиту поставил, огонь зажег, яйца бью — и только на пятом яйце соображаю, что плита-то у Ерпалыча четырехконфорочная, старого образца, без «алтарки»! Интересно мне стало: что старик делает, когда у него, к примеру, труба потечет? Шпагатом с наговоренным узелком перевязывает? Или к соседям идет? А может, на обычной горелке жертву приносит? Одной ведь молитвой, как известно, дом не ставится… да и шпагатик течь в лучшем случае неделю удержит. То-то у него кухня такая обшарпанная, краны все текут, и форточка выбитая целлофаном затянута.
Вернулся я в комнату, стали есть яичницу, и начал я Ерпалычу на житье-бытье жаловаться. Хорошо он слушать умел — я и сам не заметил, как от старого «Быка…» с Тезеем-зоофилом к новому, свеженькому перескочил, к заветным, м-мать их, «Легатам Печатей»! Терпеть ненавижу о недописанных вещах под водку трепаться, особенно когда текст второй месяц виснет, да только язык мой — враг мой! Зря я, конечно, через слово ругался по-черному, но уж больно разобрало! Некому мне выговариваться, сижу над «Легатами» в тоске душевной, дерьмо в себе коплю яко во месте отхожем, травлю душу злостью, будто кислотой… раньше хоть перед Натали распинался — все, глядишь, полегче становилось.
— Любопытно, любопытно, — бормочет Ерпалыч, — даже очень… Говорите, Легаты Печатей?.. Ангелы-Хранители?
— Скорее уж вредители, — отвечаю; и по памяти, полуприкрыв глаза: — «И воскликнул он громким голосом к четырем Ангелам, которым дано вредить земле и морю, говоря…»
— «…Не делайте вреда, — мигом подхватил Ерпалыч, счастливо жмурясь сытым котярой, — ни земле, ни морю, ни деревам доколе не положим печати на челах рабов Бога нашего!» Ишь ты — ангелы-вредители… Вы, Алик, это тоже сами придумали или как?
— Или как, — говорю. — Книжки умные читал.
— А позвольте поинтересоваться — какие?
— Разные, — говорю. — «Шахнаме» в пересказе Розенфельда «Откровение…» в адаптированном варианте «Новой Жизни». Мифы Древней Греции — еще старые, куновские… потом эту, как ее?.. Младшую Эдду, вот.
— А вы, Алик, — перебивает Ерпалыч, — небось любите фильмы порнографические смотреть? Как там кто-то кого-то углом ставит? Так сказать, любовь в доступной форме?!
Обиделся я. Яичницей даже подавился.
— Старый ты придурок, Ерпадлыч, — говорю. — Был бы ты молодой придурок — дал бы я тебе по роже. Я еще сам кого хочешь углом поставлю! А фильмы твои поганые…
Он вдруг обрадовался — с чего только, неясно.
— Да не мои, Алик, не мои, а ваши! Ведь говорите, что сами можете, без голубого экрана, а «Шахнаме» в пересказе читаете. Тем более в пересказе идиота со справкой, господина Розенфельда! Вы погодите, Алик, я сейчас… я вам для начала подыщу…
И опять удрал из комнаты.
Подошел я к магнитофону, посмотрел, как «Куреты» внутри «Садко» скачут, подумал, что пора и домой валить, — а тут Ерпалыч возвращается. С деревянной шкатулкой в руках. Крышку откинул и книгу достает. В мягком переплете, зеленовато-болотном; и издание незнакомое. Потрепанная книжица, клееная; вернее, была клееная, а сейчас все развалиться норовит.
— Что это? — спрашиваю, а он уже книжку мне протягивает.
Читаю на обложке: «Мифологическая библиотека». Чуть выше имя написано: Аполлодор. Автор небось.
Мифологический библиотекарь.
Откладываю книгу, беру шкатулку.
Стою, моргаю, шкатулку в руках верчу. Хорошая шкатулка, вместительная. И резьба на крышке обалденная: хоровод голых мужиков в шлемах с гребнями. А за ними вроде как море плещется. Редкая вещь. Антикварная. Как столик. Как сам Ерпалыч.
— Пойду я, Ерпалыч, — говорю.
— Да, да, Алик, — засуетился Ерпалыч, — конечно, идите!.. И книжку с собой возьмите. Да, вот еще…
Полез он в тумбочку, по плечи в нее зарылся и бухтит оттуда:
— У вас, Алик, магнитофон есть?
— Есть, — отвечаю. — Кассетник.
— Отлично! — кричит Ерпалыч и вылезает с какой-то кассетой в руках. — Вот вам, Алик, нужная музыка! Вы, когда Аполлодора читать станете, обязательно ее включите. А в особенности ежели мне после прочтения позвонить надумаете. Включайте звук погромче — и звоните. Договорились?
— А… что за музыка?
Он даже удивился.
— Как — что? «Куреты», Алик, это и дураку ясно…
Дураку, может, и ясно…
Взгляд исподтишка…Древесный палочник с хитренькой мордочкой черепахи Тортилы, заныкавшей Золотой Ключик и от сявки Буратино, и от пахана Карабаса. Неожиданно грустные глазки часто-часто моргают, гоняют морщинки от уголков, и тоненькие «гусиные лапки» ручейками вливаются в океан впадин, складок, бугров и ямочек, теней и света, из которых время слепило это подвижное лицо, коему место скорее в музее, под стеклом, на пыльном листе бумаги с неразборчивой подписью типа: «Рембрандт. Возвращение блудного сукина сына. Эскиз соседа на заднем плане» — нежели в обшарпанной квартире за рюмкой перцовки.
И еще: руки.
Пальцы скрипача на пенсии.
Вот он какой, Ерпалыч…
Уже в дверях стою и чувствую: чего-то мне не хватает. Постоял, подумал — и дошло до меня: магнитофон старик выключил. Точняком как я на пороге встал и за замок взялся.
Ни секундой раньше.
Вернувшись домой, я быстро разделся, плюхнулся на незастеленную кровать (ура моему разгильдяйству!) и почти сразу заснул.
Снилось мне, будто я листаю полученный от Ерпалыча раритет и ничего в нем понять не могу — то ли пьяный я, то ли во сне ничего понимать и не положено — короче, листаю, злюсь ужасно, а из книги все листики в клеточку сыплются. Надоело мне их с пола подбирать, сунул я листики эти клетчатые не помню куда, книгу на стол бросил и сплю себе дальше.
Плохо сплю.
Коряво.
Или даже не сплю, потому что звенит где-то. В ушах? А теперь громыхает. Гроза, должно быть. Зимняя. В подъезде. На моей лестничной клетке. Сперва гремела, а теперь опять звенит. В звонок звенит. В мой дверной звонок. А вот опять гром бьет. В дверь. Сапогом, похоже. На литой подошве. Сильно бьет. Видать, разошлась гроза не на шутку.
Муть у меня какая-то в голове, мысли козлами скачут, и темно вокруг. Не то чтобы совсем мрак, но темнеет. Потому что вечер. Наверное.
— Сейчас! — кричу. — Открываю!