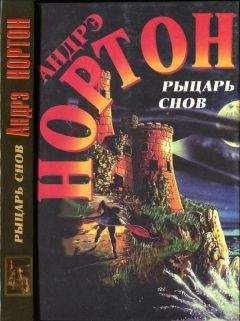Глава 25.
Радостно на душе у Крута - Флот за ним идёт! Настоящий, могучий, о котором он и мечтать не мог совсем недавно. Лодьи громадные, вида необычного. Под парусами белыми со знаком Громовника. Вертится на полотне белом Божье Колесо. Неотвратимо и страшно – это поступь воина. Могучего, неуязвимого! Поддувает в корму ветер попутный, несёт пахарей моря к Арконе Благословенной. Жаль, конечно, что последний то поход к родные края, да не по своей воле выбрали славы этот путь – жрецы! Брюха немеряные, глаза завидущие! Знали ведь, что нужда великая у князей в людях, ведали и то, что братья пророчество Прокши – Провидца не для себя, для всего племени славянского исполняют, ибо уже виден из-за Рубежа Триглавый Чернобог, тень свою над родимой землёй простёрший. Так нет! Из-за собственной жадности, от того, что выкупил у Храма дружинник закупов, коих в голодные года смогли ненасытные закабалить, отказались от всего из-за обиды для желудков своих бездонных, да кошелей, меры не имеющих. А что рабство соплеменника одной крови не по Правде Славянской – про то жрецы забыли. И, похоже, давно. Будто заживо тлеют служители, мертвечиной от них прёт. Он, Крут, видит это хорошо! Подойдёт к нему человек, кажется, что живой, разговаривает, руками водит, что-то делает. А присмотреться – нет у того человека души. Умерла она. Пустая оболочка перед ним стоит. Прикидывается человеком. Был, когда ещё отроком ходил у отца братьев-князей покойного, в Царь-граде Крут. Сопровождал с посольством воинов. Там впервые и встретился он с таким народом. Ещё приставал к наставнику своему, чтобы объяснил, почему это у ромеев народа нет живого. Одни тени? Так тот и не объяснил юноше, не смог понять, о чём парнишка речь ведёт. И ещё видел Крут других людей, те одинм своим видом ужас внушали, непереносимый. Ибо душу они имели, в отличие от простых теней, но была та душа чернее ночи, темнее мглы осенней, когда небо тучами плотно затянуто. И самое страшное – что вот той черноты тянулись ниточки тёмные, крохотные, к людям-теням, и высасывала эта чернота из теней остатки жизни… Откроешь глаза – с виду обычные люди. В разных одеждах, простых и богатых, целых и рваных. Шутят, разговаривают, едят или работают, дело делают. А прикроешь глаза, посмотришь внутренним взором, и сразу ясно становится, что к чему. Единый лишь раз видел юный Крута среди царьградских ромеев живого человека, если своих товарищей не считать. Да тот стоял на помосте позорном, цепями к столбу прикованный, окружённый чернотой, злобно пытающейся присосаться к сияющей душе своими нитками-сосками, вытянуть силу жизненную, убить душу людскую. Тогда жгли еретика, или отступника, как им пояснили, приведя на казнь, желая продемонстрировать силу своего Распятого. Стоял казнимый у столба, пытками изломаный. Живого места не было на теле его. Но держал человек голову гордо и смело, горели верой истинной глаза его, неземные, и суетились вокруг помоста люди со позорными символами Триглава на груди в чёрных длиннополых одеяниях, распевающих громко мольбы к своему Господину. И злобно шевелились чёрные нити – не удавалось им присосаться, начать качать в Ничто душу чистую… В Славгороде старший дружинник таких вот чёрных не видел. Даже Брендан, будучи служителем Триглава, и то душу имел. Пусть поначалу и темноватую, но, без сомнения, истинную. Потому то тогда, в капище Чернобога, и пощадил его славянин, даже ещё не зная, кто таков на самом деле этот тощий, но жилистый монах. Остановил Крут меч, уже занесённый над макушкой выбритой, велел взять его в цепи воинам. И – угадал… За четыре года очистилась душа ирландца, сияет неугасимым чистым светом, ярко пылает в ночи… Теперь бывший монах – слав. Одного рода-племени с Крутом. Женат девушке из славянского племени, живёт с ней в согласии. Одно дитя у них в семье, дочка, уже родилось. Теперь вот второго ждут. Конечно, будь муж дома дольше, уже бы и третий ребёнок на подходе был, да только ирландец неугомонный, и умом быстр и светел. Постоянно в походах. То на рудниках командует, то – на оружейном дворе махины испытывает. Жёнка его, бывает, месяцами не видит, но не ропщет. Ибо нет ничего на свете больше терпения любящей женщины. Да прочие… Сколько раз замечал старший воин, что попадает в Славгород человек с такой вот ослабленной душой, и вскоре начинает та выздоравливать, наливаться силой, сбрасывать с себя темень, Триглавом напущенную. И не важно, возносит ли тот человек требы Святовиду, или приносит жертву Перуну, или стучит колотушкой по бубну, камлая Маниту – идёт от града к небесам ровный светлый столб, возносится, становясь всё крепче и светлее с каждым днём, с каждым человеком, с каждым ребёнком, рождающимся в семьях славов. И не важно, появился ли это охочий меднокожий, желающий своими глазами увидеть чудеса, творящиеся в стойбище белоликих, или родился ребёнок в семье смешанной, то ли единокровной. Главное, что теперь та душа не поддастся на обман да посулы служителей Чернобога. Не захватить Триглаву в полон нового раба. Как бы не колдовали своими молениями в капищах его служители с символом позорной казни Первого Рима на груди. Нет ничего страшнее для черноризцев такого вот просветлённого человека, и чистой, истинной душой, потому и ненавидят они их больше всего на свете, стремятся всеми силами извести, сжить со свету…
- Старшой! Старшой!!!
Истошный крик раздался от двери избы, установленной на палубе двулодника, и Крут вихрем подорвался с лежанки, на которой размышлял, запрокинув руки за голову. Выскочил наружу, и едва не схватился за меч, но сообразил, что видит прежде, чем совершил действие. Вскинул руку, в знак приветствия, ударил себя в грудь кулаком:
- Здрав будь, Путята!
Тот, словно так и должно, ответил в свою очередь:
- И ты будь здрав, Старший. Дело у меня к тебе, неотложное и срочное. Потому и явился я к тебе.
Повёл рукой жрец, и вдруг очутились оба на льду зеленоватом и прозрачном, на шкурах неведомых, разостланных на стволах дубовых, возле костра, прямо на льду том горящем без дров. Вместе с ними ещё восемь воинов сидят кружком, пьют напитки неведомые, едят мясо нежное, языку и нёбу неизвестные. Узнал всех Крут почти, кроме троих: братья-князья, Брячислав и Гостомысл. Храбр, Слав, Брендан. И трое незнакомых ему воинов. Впрочем, один из троицы, кажется, меднокожий. Орлиные перья на его уборе. Шкура пятнистого зверя на плечах. Второй – муж в годах, с окладистой седой бородой чуть ли не пояса богатого, бляшками металла неведомого изукрашенного. Ну а третий… Молод, тело сильное на диво. Доспех на нём тонкой и дивной работы, каждая часть подогнана, сложено всё так, словно самые искусные кузнецы броню ту творили. Увидел седой явившихся гостей, прогудел: