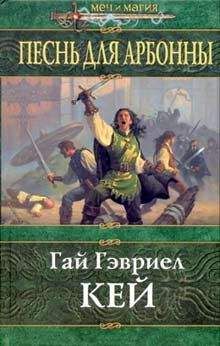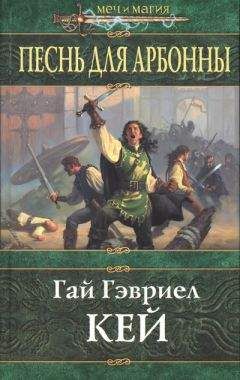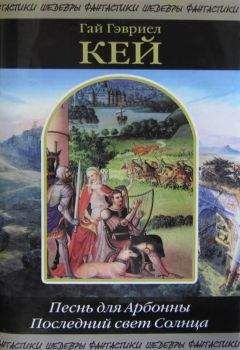Она снова посмотрела на Рамира. Он все еще настраивал лютню, разминая при этом пальцы. Дядя Лиссет учил ее этому во время одного из первых уроков, которые он ей дал: что бы ты ни пела, никогда не торопись начинать. Начинай тогда, когда будешь готова, никто не уйдет, пока они видят, что ты готовишься.
— Нам здесь бросили вызов, — сказал Рамир, словно вел беседу, склонив одно ухо к лютне и перебирая пальцами струны. Его голос звучал так тихо, что всем пришлось податься вперед, чтобы расслышать. Тишина внезапно стала полной. Еще один трюк жонглера, Лиссет это знала. Она краем глаза заметила, что Реми теперь тоже улыбается.
— В самом деле, любопытный вызов. — В первый раз Рамир бросил быстрый взгляд на стол гётцландеров. — Как можно справедливо выбрать между музыкой разных стран, разных наследий? Конечно, есть прекрасная музыка, созданная в Ауленсбурге, и в Аримонде при дворе короля Верисенны, как нас только что убеждал так… трезво, наш друг, сидящий вон там. — Зал насмешливо загудел. Постепенно, почти незаметно голос Рамира начал звенеть и сплетаться с кажущимися произвольными аккордами, которые он брал на лютне. Лицо Аурелиана, заметила Лиссет, застыло, он весь превратился в слух.
— Нам задали вопрос: в свете этой истины почему Арбонне принадлежит первое место? — Рамир сделал паузу и неспешно обвел взглядом комнату. — Нам также задали вопрос почти столь же многословно: что предстоит оплакивать, если Арбонна погибнет?
После этого воцарилось молчание, слышались только небрежные ноты, извлекаемые из инструмента как будто непроизвольно. Лиссет вдруг сглотнула с трудом. Рамир продолжал:
— Я всего лишь певец, и на такие вопросы трудно ответить. Позвольте мне предложить вместо ответа песню, и мои извинения, если вы найдете этот ответ неубедительным или если я не доставлю вам удовольствия. — Древняя формула, никто ее больше не употребляет. — Я спою песню первого из трубадуров.
— А! — прошептал Реми. — А, хорошо.
Пальцы Рамира теперь забегали быстрее, музыка начала обретать форму, словно ноты, разбросанные до этого по всему свету, добирались вместе по приказу певца.
— Ансельм Каувасский был человеком скромного происхождения, — говорил Рамир, и это тоже был старомодный обычай: давать «видан» — жизнеописание, рассказывать о композиторе. Никто из нового поколения больше не делал этого, начиная песню. — Но Ансельм был умным и талантливым человеком, и его взяли в храм бога в Каувасе, а потом герцог Раймбаут де Во взял его в свой дом, и в конце концов он привлек внимание самого правителя Фолькета, и граф Фолькет возвысил Ансельма за его мудрость и скромность и поручал ему вести многие государственные дела во всех шести странах в течение многих лет. И у Ансельма несколько раз случались великие романы со знатными дамами его времени, но он всегда оставался целомудренным и уважаемым и никогда не называл имен этих дам, но под влиянием страсти и желания он начинал сочинять для них песни, и вот так появились трубадуры в Арбонне.
Музыка, служившая фоном для его рассказа, была прекрасная, нежная, точная, многоплановая. Рамир сказал:
— Я мог бы спеть сегодня песнь о любви Ансельма Каувасского, я мог бы петь его песни о любви всю ночь напролет, пока рассвет не придет и не позовет под открытое небо. Но нам здесь бросили вызов другого рода, и поэтому я спою другую песню. С вашего позволения и заручившись милостью всех собравшихся здесь я спою песнь, которую Ансельм написал однажды, когда находился вдали от дома.
Музыка изменилась и осталась одна, создавая пространство для красоты при свечах и фонарях в переполненной таверне, а первые холодные ветра осени уже дули за ее стенами. Лиссет сразу же узнала мелодию. Все за их столом знали этот мотив. Она ждала, чувствуя близкие слезы, ей хотелось закрыть глаза, но также хотелось видеть Рамира, каждое его движение, а через секунду она услышала, как жонглер запел:
Когда ветер, прилетевший из Арбонны,
К северу несется через горы,
Здесь, в Горауте, мне сердце наполняя,
Знаю — и в Люссан, и в Тавернель,
И в оливковые рощи над Везетом,
И в Мираваля виноградники весна пришла,
И вновь запели соловьи на юге.
Звучный голос Рамира снова умолк, но простые, нежные звуки музыки уносили их за собой. Эта песня, и слова, и музыка, отличалась старинной, не отшлифованной простотой. Она была очень далека от сложных мелодий Журдайна или от тонкой игры мыслей, образов и меняющейся формы лучших произведений Реми или новых песен Алайна. Однако это был подлинный голос чего-то такого, что только еще начиналось. Лиссет понимала, что в ней ее корни, как и корни всех трубадуров и жонглеров: и сидящих за тем столом трубадуров из Гётцланда, и всех певцов Аримонды и Портеццы, и тех мужчин из Гораута и Валенсы, которые отваживались сочинять музыку, непохожую на бесконечные, грозные военные гимны этих северных земель.
Словно в ответ на эти ее мысли голос Рамира снова зазвучал, не такой сильный, возможно, как когда-то, но зато годы и мудрость сделали его чистым и превратили в инструмент, столь же редкий и прекрасный, как его лютня:
Здесь, в Горауте, так далеко от дома,
Средь людей, что глухи к звукам песен,
Среди дам, к поэтам неучтивых,
Им не дарящих любви, воспоминанье
О деревьях, о садах, омытых,
Водами прекрасными Арбонны,
К морю с гор текущими, — виденье
Это, милостью Риан, подарит сердцу
Отдых обещаньем возвращенья.
Пение смолкло. Рамир еще некоторое время продолжал играть, снова по старой моде, а затем его пальцы на лютне замерли. В таверне стояла тишина. Лиссет медленно обвела взглядом своих друзей. Все они слышали эту песню раньше, все пели ее сами, но не так. Так ее не пели никогда. Она видела, что из всех сидящих рядом именно у Реми были слезы на глазах. У нее самой сердце было переполнено до боли.
Опустив голову, Рамир осторожно надевал на лютню чехол. Ему потребовалось много времени, чтобы справиться с завязками. Никто не издал ни звука. Он закончил укладывать свой инструмент. Поморщившись, неуклюже согнул больную ногу и встал с низкого табурета. Серьезно поклонился столу гётцландеров. Конечно, сообразила Лиссет: это они в каком-то смысле заказали эту песню. Он повернулся, собираясь уходить, но тут, словно ему в голову только что пришла мысль, снова оглянулся на гётцландеров.
— Простите, — произнес он, — вы мне позволите поправить то, что я сказал раньше? — Его голос снова звучал тихо, и им пришлось наклониться вперед, чтобы услышать. И Лиссет услышала и запомнила на всю жизнь, как Рамир Талаирский произнес грустным и добрым голосом: — Я сказал вам, что не стану петь песню Ансельма о любви. Это неправда, если задуматься. Все-таки я вам спел песнь о любви.