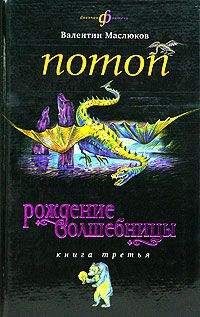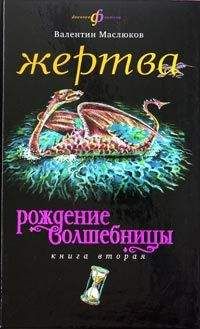— Провалиться, так с треском!
И с этим провалилась. То есть исчезла.
Оставив после себя раскрытый том и внезапно осиротевшего Дракулу, который принял эту новую превратность со стоической покорностью.
Прободение в статью не было сопряжено для Золотинки ни с каким заметным усилием — сказывался опыт обращения с волшебными книгами. Едва поймала она глазами заглавие статьи «истина», как очутилась в кромешной тьме.
Тьма эта отличалась от всякой другой существенными особенностями. Во-первых, несмотря на полнейший, непроницаемый мрак, Золотинка отлично видела свои обгоревшие на солнце ноги. Видела плечи, живот, растопыренную для пробы пятерню. Тело ее было равномерно и сильно освещено, хотя самый источник света не поддавался определению. Во-вторых, Золотинка ни на чем не стояла, то есть не имела под ногами опоры. Но это не значит, что она висела или парила — все эти состояния были бы связаны с напряжением мышц, сопротивлением среды, а Золотинка просто… пребывала. Обреталась во тьме. Не чувствуя ни жары, ни холода. Вернее сказать, здесь было скорее тепло, чем холодно, после промозглых покоев замка Золотинка ощущала блаженный озноб, который испытывает закоченевший человек, согреваясь. Воздух был свеж и чист, хотя ни малейших токов его не ощущалось. Недоумевая относительно своего положения в пространстве, она попыталась сдвинуться, и опять — ничто не мешало ей шагать, как бы подниматься или даже спускаться, переворачиваться через голову, при той, однако, странности, что в полнейшем мгле не возможно было понять, действительно ли она движется, переворачивается или просто перебирает ногами на месте. Вокруг ничего не менялось.
— Вот так истина! — сказала Золотинка, совершенно не рассчитывая на то, что громогласному ее недоумению сыщется свидетель. — Это что, издевательство?
— Да что ты, малышка! Как можно! — раздался ласковый голос, мгновенно знакомый. Золотинка узнала его прежде, чем оглянулась.
И с щенячьим визгом кинулась навстречу Поплеве, который, шумно вздохнув, принял ее на широкую, как лемех плуга, грудь.
— Поплева! Поплева! Да ведь Поплева! — восклицала она, вдыхая запах смолы, махорки, ощупывая, перебирая, терзая, целуя, дергая за бороду и снова кидаясь обнимать со слезами и смехом. — Экое ты у меня дерево!
Поплева, натурально, Поплева — нечесаный, свирепо всклокоченный, краснорожий, добрый, в парусиновой рубахе и в штанах, босиком, как привык он разгуливать по палубе «Трех рюмок».
Но здесь под огромными его ступнями с отставленными врозь пальцами была тьма.
— Поплева, да ты ли это? — отстранилась Золотинка в недоумении и восторге.
— Как бы это сказать, малышка… — смутился он, трогая пальцами уголки глаз, — я, конечно, совершеннейший Поплева. И в то же время, как бы это выразиться… плод твоего воображения. К сожалению.
— Да? — протянула Золотинка, отступая на шаг.
Поплева, заметно задетый, вздохнул и прижал к груди убедительно растопыренную пятерню:
— Для полноты истины следует признать, что я вообще-то… как бы это половчее определить… вообще-то я учитель мудрости.
— Да? — хмыкнула Золотинка.
И тут раздался голос Тучки:
— А ты присядь, малышка! — Улыбаясь, Тучка подвинул ей небольшое, уютное облачко.
Она замерла, а Тучка, круглолицый, остриженный, как арбуз, призывно раскинул руки и сказал жалобно:
— А мне?
Замутившая первый порыв растерянность не укрылась от Тучки, он подался было и сам навстречу дочурке, но остановился, не зная куда девать широко, с замахом расставленные руки.
— Тучка, ты тоже не настоящий? — сказала Золотинка, не справившись с голосом, — и не естественно, и не беззаботно. — Ты убит?
Круглое лицо Тучки исказилось, он неровно задышал и поймал зубами непослушно заходившие губы.
— Прости, родной! — Золотинка сорвалась с места. Залегшее на пути облачко отскочило под ногой, невесомое и мягкое в столкновении. В объятиях Тучки Золотинка разрыдалась.
— Я тоже учитель му-му-удрости, — всхлипывая, промычал Тучка.
Они обнялись все втроем, все трое рыдая. Братья целовали дочку мокрыми губами в мокрые щеки, целовали плечи под непросохшей тканью, в уши целовали и за ушами, там где начинались корни золотых волос, целовали залитые слезами глаза, целовали руки.
— Видишь ли, малышка, — начал Тучка, пытаясь явить собой пример рассудительности, но продолжать не смог, отчаянно зашмыгал носом и остановился, чтобы достать из просторных синих штанин похожий на парус платок. Пока Тучка утирался, воздыхая, Поплева отвернулся, чутко отодвинувшись, и высморкался. Сильно сброшенная, сопля полетела в пространство, посверкивая, и скоро стала, как маленькая, едва приметная в черноте звездочка. Долго-долго она затухала, не теряясь совсем. — Видишь ли, малышка, — кое-как справившись с собой, продолжал Тучка. — Мы, собственно говоря, только проводники, только проводники. В виду неведомых берегов, где лот показывает тебе то две сажени, то двадцать, а прилив меняет течение, ты бросаешь якорь, чтобы дождаться отлива и принять на борт вожа. Без вожа не обойтись. Словом, мы проведем тебя изменчивыми путями истины.
— Но как долго? — спохватилась Золотинка.
— Ты можешь убрать паруса, оставив фок и марсели?
— Никак не могу задерживаться. Никак.
— Все же придется для начала взять к ветру и лечь в дрейф, — заметил Поплева, окончательно улаживая дела с носом: утихомиривая его и оглаживая. — Самый короткий переход по путям истины считается в два с половиной года. Пробег поболее — тридцать пять лет. Ну, а так, чтобы в основные гавани забежать, нигде не задерживаясь, так это сто пятнадцать лет будет. Только, кажется, ни один человек еще всех гаваней не обежал.
— Видишь ли, малышка, — продолжал Тучка, запихивая платок в штанину, — истина существует сама по себе…
— Истина существует! — поднял палец Поплева.
— …Но чтобы истину постичь, нужна вера. Вера в истину. Истина нуждается в вере.
— Воистину так! — подтвердил Поплева, выставляя тот же палец, черный от въевшейся по трещинкам смолы.
— Вера в истину! — продолжал Тучка. — Но вера без любви не уцелеет.
— Святая истина! — поддержал Поплева.
— Истина безмерна. Чтобы выдержать ее испепеляющий свет нужно укрепленное любовью сердце. Вот в чем дело. Теперь ты понимаешь?
— …Почему мы здесь? — завершил Поплева.
В голосе не слышалось торжества, скорее наоборот, странным образом неуверенность, он оглянулся на брата и тот прибавил, как бы извиняясь:
— Неважно кто.
— Совершенно неважно! Любовь в тебе. Любовь всегда в любящем, в том, кто любит.