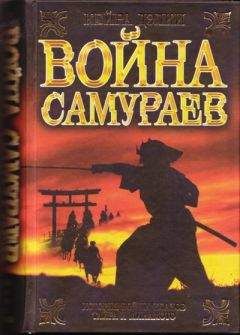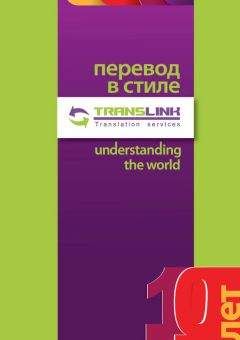— Это столичные хлопоты. Не наша забота.
Он почувствовал долгий взгляд в спину. Наконец жена произнесла:
— Возвращайся скорее.
— Хорошо.
Шорох кимоно возвестил об ее уходе.
Ёритомо снова поднял глаза к небу и вгляделся в зловещий огонек. Он и впрямь тревожился — как бы столичные хлопоты не стали его заботами. В последнее время свой человек из Рокухары прямо-таки заваливал его письмами о том, как Киёмори слабеет рассудком, как от Тайра на улицах нет спасения, как с их попустительства разрушили Энрякудзи. «Кто-то должен выручить народ. Кто же, если не Минамото? Кому, если не сыну великого Ёситомо, следует вызвать самодуров Тайра на праведный бой и воздать за убийство отца?»
Комета висела в небе, трепеща, словно алый стяг на ветру, — вражье знамя, зовущее к битве.
Прошло два месяца. Зимние снега и льды растаяли, превратив императорский сад в болото жидкой грязи. Из всех времен года это нравилось Кэнрэймон-ин меньше всего — воздух хотя и потеплел, но деревья стоят голые и ни одно не цветет. Недуг, одолевавший ее всю зиму, наконец отступил, зато навалилась новая напасть, лишив всякого аппетита.
«Быть может, это божья кара за Кусанаги?» — гадала она.
Однако, не дождавшись в срок обыкновенного женского, Кэнрэймон-ин задумалась, вспоминая матушкины наставления. Она послала за министром — начальником Лекарской палаты, а тот, в свою очередь, прислал старую монахиню-врачевательницу.
Старушка принялась ощупывать и тыкать императрицу в самые укромные места, бормоча слова Лотосовой сутры. Кэнрэймон-ин, отвернувшись, разглядывала унылый сад, пытаясь сосредоточиться на ином, чтобы не вскрикнуть или не поморщиться от непривычного прикосновения.
— Давно ли у вашего величества задерживаются истечения?
— Дней десять, кажется.
— А когда вы почувствовали недомогание?
— По-моему, около четырнадцати дней назад.
— Сколько вашему величеству лет?
— Двадцать три.
— Значит, вы родились в год Змеи? — Да.
— А государь, ваш супруг?
— В год Петуха.
— М-м… — Монахиня наконец откинулась на пятках с довольным видом. — Могу я огласить кое-что для придворных, госпожа?
— Огласить?
— Да, что вы понесли.
— А-а… Да, конечно. — Кэнрэймон-ин улыбнулась, хотя и несколько болезненно.
— Не бойтесь, госпожа. Все будет хорошо. — Старушка низко поклонилась и, шустрее, чем можно было ожидать для ее возраста, просеменила за алые занавеси к сёдзи. В проходе она снова опустилась на колени и вывела: — Радуйтесь: государыня в тягости!
Из дверей императрицыной опочивальни весть разнеслась по столице подобно недавнему пожару. Кэнрэймон-ин так и слышала, как за бумагой перегородок о ней шепчутся слуги и царедворцы. Ее неизменно удивляло, почему такие сугубо личные вещи вызывают всеобщее любопытство. Однако она была императрицей, и в ее жизни почти не осталось личного.
Кэнрэймон-ин оглядела живот, в котором еще не скоро уга-дается маленькая жизнь.
— Значит, ты и станешь тем самым императором Тайра, — прошептала она. — А пока, малыш, расти себе в тепле и покое.
Неизвестно, какой мир тебя встретит, когда ты появишься на свет.
Мунэмори тоже был во дворце по своей надобности, когда до него долетела счастливая новость. Он не мешкая велел закладывать упряжку и отбыл в Нисихатидзё, радуясь возможности рассказать обо всем отцу.
Повозка шла неровно, и Мунэмори подбрасывало на ухабах, однако он не жаловался. Вознице было велено гнать во весь опор, что он и делал, покрикивая:
— Посторонись! Дорогу высокому вельможе, благородному Тайра! Расступитесь перед моим хозяином!
Мунэмори тем временем грезил о будущем, которое таило в себе радостное известие. Уж теперь-то судьба повернется к нему лицом: маленький император, верно, оценит заслуги дяди Мунэмори и пожалует ему высокую должность. «Быть может, именно так я сделаюсь главой Тайра, — размышлял Мунэмори. — Быть может, однажды мне даже доверят пост канцлера».
Вскоре во дворец можно будет наведываться еще чаще — через месяц-другой жена Мунэмори сама должна разрешиться от бремени. «Если родится сын, они с наследным принцем смогут играть вместе, а меня в это время будут приглашать на чай к Такакуре. Если родится девочка, когда-нибудь она, возможно, составит партию маленькому императору — ведь они нередко женятся на родственницах, — и тогда у меня самого, вероятно, будет внук-император».
Так в Нисихатидзё Мунэмори приехал хмельным от тщеславных грез и потребовал, чтобы его немедля отвели к отцу.
Киёмори был удивлен и раздосадован его появлением. Мунэмори отметил, как тот осунулся и поседел с их последней встречи. «Стареет, — сказал он себе. — Немудрено, что Тайра перестали ему подчиняться».
— Мунэмори? Что это значит? Или ты разучился себя вести? Забыл, кто в семье главный?
— Радуйся, отец: у меня для тебя хорошее известие. Твоя дочь — моя сестра — в тягости!
Его усилия были тотчас вознаграждены. Киёмори поднял брови и расплылся в улыбке:
— В тягости? Да это же превосходно! Наконец-то!
И вот уже вся усадьба бурлила, переваривая счастливую новость, а Мунэмори, вокруг которого поднялся этот переполох, купался в лучах радости и умиления, точно шарик из чайных листьев. Киёмори оставил его ужинать, и весь вечер они поднимали чарку за чаркой за здравие каждого члена государевой семьи, не обойдя даже Го-Сиракаву. Поучаствовать в празднестве прибыли и другие Тайра, в том числе младшие братья Мунэмори — Сигэхира и Томомори, вместе с матерью, Нии-но-Амой. Мунэмори не без отрады отметил, что старшего из них, блистательного Сигэмори, среди гостей не было.
Глубоко после заката явился слуга из челяди Мунэмори.
— Господин, вам следует немедленно возвращаться.
— Что? Ступай прочь. Приеду, когда все закончу.
— Простите, что докучаю, господин, но дело не терпит.
— Это жена тебя послала, так?
— Она… то есть да, господин, я прибыл из-за нее. Только тут Мунэмори заметил, что глаза у слуги припухли, а сам он — белее мела.
— Что случилось? Ей нездоровится?
— Будет лучше не обсуждать этого при остальных. Прошу, господин, поезжайте домой, и узнаете сами.
Нии-но-Ама услышала разговор, обернулась и сказала:
— Не будь чурбаном, Мунэмори. Ступай повидайся с женой. Итак, Мунэмори снова забрался в карету, на сей раз в самом дурном расположении духа, и затрясся по ухабам, предвкушая расправу. «Если это очередной каприз, пусть пеняет на себя. Света белого невзвидит! А хотя бы и заболела — надо быть осторожнее!» Колеса и воловьи копыта скрипели по грязной мостовой, навевая глубочайшее уныние.