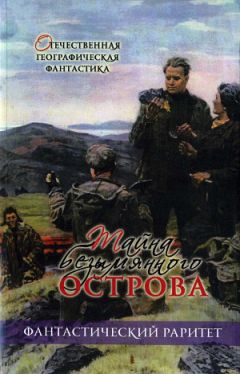Она с интересом и восхищением смотрела на благородного рыцаря. Она трепетно вслушивалась в его напыщенные слова. По мужским меркам он был очень красив: высокий, черноволосый, голубоглазый. Точеный подбородок, прямой нос, высокий лоб, густые черные брови, тонкие усики и бородка, гордый смелый взгляд — все говорило о его породистой аристократичности. Если добавить к этому еще внутренние качества, такие как смелость, отвага, сила, воинское мастерство и сноровка, то получался образец мужества. Но ведь он еще и влюблен, а значит — он нежен, поэтичен, красиво излагает свои мысли, что, собственно, уже доказал. А если добавить его титул и богатства, то идеальнее пары, казалось, и быть не могло. Но вот леди Эдолия держалась как-то сковано и сжато по отношению к лорду Годдриху. Или ее смущает толпа? Может она на людях всегда так себя ведет, чтобы не вызывать излишних толков? Или, быть может, ее стесняет король и отец?
Я отвлекся и покосился в сторону. Мой сосед откровенно пялился на молодую привлекательную особу. Он высовывался из-за плеч и голов, не в силах отвести взгляда от леди Эдолии. Я присмотрелся. Разумеется, он не смотрел в ее глаза, но ощупывал взором небесно-голубое платье с большим вырезом. Особенно тщательно он «ощупывал» вырез. Я тихо посмеялся.
Тем временем Леди Эдолия тоже наградила рыцаря снисходительной улыбкой. В глазах ее мелькнул озорной огонек. Она игриво пропела:
— Зачем же умирать, лучше сражайтесь достойно, и радуйте нас своими победами, благородный граф Тильборский. Ведь турнир как раз и призван для такого. Здесь не нужно убивать — здесь нужно побеждать. И если я для вас источник силы, то, что ж, мне лестно и очень приятно. Ведь, тем самым, вы приобщаете меня к победе.
— Я хочу быть уверен — не напрасны ли мои победы? — могучий вороной конь гарцевал под Годдрихом, красуясь перед милой девушкой мощью и грацией. Но еще больше красовался сам Годдрих. Она метнула на него загадочный взгляд, и снова пристыжено потупилась.
— Поверьте, ничья победа не может быть напрасной.
— Но я прошу… прошу вас быть… моей избранницей… — железным рыцарским натиском звучал его голос. Хотя я прекрасно чувствовал, с каким трудом давались ему те слова. И не потому, что он говорил их высокородной даме. И не потому, что он признавался в своих чувствах. Но потому, что он боялся услышать ответ. Леди Эдолия тоже понимала все это, пусть неосознанно, поэтому, краснея, проронила:
— О, граф, поверьте, я не могу быть такой легкомысленной, чтобы вот так вот просто обещать вам…
— Так дайте же надежду? — не сдавался он.
— Ну…
— Пусть мимолетную!
— Ну…
— Так как?
— Посмотрим, лорд Годдрих, — полыхнули ее большие глаза. — Но для начала победите.
— Да будет так! — гордо вскинув голову, ответствовал рыцарь. Бросил на прощание пламенный многообещающий взгляд, сверкнул глазами. Поклонился Эдолии, ее отцу и королю. И аллюром двинулся к своим оруженосцам. Длинноногий конь, равно как и хозяин, держался гордо и независимо.
Я слушал их высокопарную речь и потешался. Да, как много они создают условностей и формальностей, от которых сами порой и страдают. Каким сложным кажется придворный этикет, который все они обязаны соблюдать. Как сильно они ограничены в выборе слов, не смея сказать в лицо все, о чем думают. Зато оживленно перешептываются за спинами друг у друга, скаля зубы и угрожая кулаком. Да, в этом они переплюнули даже простолюдинов, которым совершенно безразлично, что и как говорить. У них лишь одно ограничение — кому. Ни один простолюдин, разумеется, не скажет и слова поперек высокородному. Зато друг другу они безбоязненно высказывают все, причем очень часто.
Я заинтересованно следил за королевским подиумом, пытаясь уловить желания, идущие оттуда. Желаний оказалось очень много. И такими они были порой противоречивыми, что я невольно усмехнулся, и вновь старательно потянул воздух. Король выглядел бодрым и веселым — он ждал продолжения турнира. Отец Эдолии впал в глубокое раздумье. А сама леди Эдолия погрустневшим взглядом провожала черную спину рыцаря. Ее одолевала легкая печаль. Ей нравился лорд Годдрих, но ей не нравилась его настойчивость. Ее смущало то, что он склонял ее к выбору, который она, пока, делать не собиралась. Я ловил каждое ее выражение, движение губ и глаз. Мне было интересно, почему такой образцовый кавалер, как граф Тильборский не может завоевать ее сердца. Ведь иные дамы, наверняка, сами сходили с ума по изысканному и благородному лорду.
И вдруг я снова под ухом услыхал знакомый голос:
— Вот это телуха… эко метит твой рыцарь! Она ж дочь герцога!
Я снова рассмеялся, но на сей раз от души. Уж так контрастны его слова, после диалога дворян.
— Не, ты глянь, — не унимался он, жадно сглатывая. — У нее ж… прям вымя. Эх, ухватиться бы!
— Так ухватись, — весело посоветовал я. Он перевел на меня отрешенный взор. Я подмигнул и повторил:
— Попробуй.
— Ты чего, милейший? — холодно вздрогнул его голос. — Меня тут же алебардами напластают.
Я перевел на него вопрошающий взгляд, полный наигранного недоумения.
— Но ведь ты истинно желаешь этого? Ты ведь жизнь готов отдать? Ухватись, а там уж будь, что будет…
— Ты чего, сдурел?! — всполошился он, едва не подскочив на месте. — Чтоб я да за сиськи жизнь отдал? Не, не, не отдам, пусть и родовитые сиськи. Жизнь ни за что не отдам.
— Значит желание твое неискреннее, — посочувствовал я, и снова посмотрел на королевский подиум.
— Искреннее! Но жизнь не отдам! — он красноречиво утер сопли. — Да за жизнь свою я столько сисек ухвачу… вон у нас есть одна…
— Не истинно желание твое, — властно перебил я. — Во имя истинных желаний мы готовы жертвовать всем, и даже жизнью. Твое желание, кстати, легко осуществимо, хоть и глупо по содержанию. Даже жизнь отдавать не надо. Просто надо головой подумать. Но тебе думать не дано. Потому сиди, и грызи свою зависть и утирай сопли.
— Так я… а как его осуществить? — живо придвинулся он, вкрадчиво заглядывая мне в лицо.
Я демонстративно отодвинулся, говоря:
— Если я все буду рассказывать, то какой смысл тогда вам стремиться и желать? Стремиться нужно самому.
— Так я и стремлюсь.
Я окинул его жалостливым взглядом, покивал и сказал:
— Сиди и не высовывайся. Если не хочешь под алебарду попасть.
— Эх! — досадливо крякнул он. И сел на место.
Прошло немного времени, и снова на трибуну взошел герольд. Время летело над штандартами и хоругвями, над головами собравшихся, над конскими гривами, над деревянными крышами строений, что огораживали ристалище. Герольд всходил еще и еще. Каждый новый поединок требовал его огласки, и он старался во всю мощь своих легких. И каждый раз он громко и торжественно объявлял: