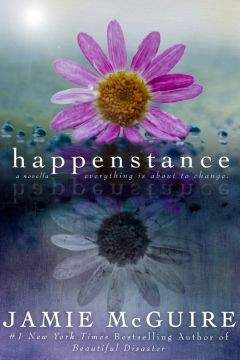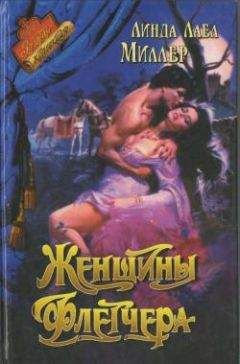Теперь, когда мы отыскали Дюваля, ход больше не кажется мне таким уж темным и невозможно длинным. Несколько минут — и мы друг за другом вываливаемся назад в мою спальню. Я ставлю свечи на стол и растапливаю очаг, а Чудище с де Лорнэем укладывают Дюваля в постель.
Они тихо переговариваются между собой, я же снимаю с углей котелок подогретого бульона. Как хочется упасть на искалеченное тело Дюваля и разрыдаться!.. Вместо этого я ставлю чашку с бульоном на поднос, добавляю кусочек хлеба и, расправив плечи, несу все это к постели.
— Есть новости, — говорю я ему.
Он отказывается от пищи, но я непреклонна:
— Пока не поешь, ни слова не скажу!
Дюваль переглядывается с Чудищем, и я вижу, что подобная трата сил кажется ему излишней. Он уже примирился с тем, что умирает. Более того, смерть ему куда милей перспективы остаток дней пролежать беспомощным полутрупом, не способным двигаться без посторонней подмоги. Вот только меня это решительно не устраивает, и я вкладываю ему в руки ложку.
— Рассказывай, — ворчит Дюваль, поднося ее ко рту.
— Французы нарушили границу. Они вторглись в Бретань и взяли Ансени, Фужер и Витрэ.
Ложка замирает в воздухе.
— Наследные владения маршала Рье?
— Вот именно, — говорю я.
Кто-то из мужчин присвистывает, то ли Чудище, то ли де Лорнэй.
— Ты ешь давай, — велю я и, дождавшись, чтобы он проглотил еще ложку бульона, продолжаю: — Капитан Дюнуа полагает, что мы можем использовать это обстоятельство для примирения с маршалом Рье.
— Незачем ей искать примирения с Рье, — яростно произносит Дюваль. — Пусть потребует, чтобы он сам явился к ней, моля о прощении! Нельзя, чтобы она ехала к нему первая!
Поневоле спрашиваю себя, кто это на самом деле говорит — Дюваль или отрава. Не таково у герцогини положение, чтобы чего-то требовать. И я говорю:
— Мне не по сердцу маршал Рье и то, что он натворил, но если есть шанс привлечь на свою сторону союзника, почему ей хотя бы не подумать об этом?
— И как собираются осуществить примирение? — спрашивает он.
— Поедут в Нант, чтобы убедить его вернуться под знамена герцогини и повести ее войска против французов.
Дюваль откусывает хлеба:
— А Крунар что сказал?
— Предложил ей запереться в Геранде и ждать помощи, но Дюнуа и сама государыня с ним не согласились, и их мнение возобладало.
— Когда они выезжают?
— Завтра на рассвете, — говорю я ему. — Пока ни в Нанте, ни при французском дворе еще не проведали об их плане.
У него вырывается ругательство:
— Неужели они не понимают, что, скорее всего, едут прямо в ловушку?
— Не говоря уже о том, что французы орудуют на нашей земле, то есть наверняка разослали во все стороны шпионов и дозоры, — добавляет Чудище. — Отряд-то хоть большой будет?
— Нет. Человек двадцать, не более.
Чудище кивает:
— То есть любой французский разъезд перебьет их, как кур.
Дюваль роняет голову на подушку:
— Во имя пяти ран Христовых, ну и выбрал же я время, чтобы лежать тут отравленным!
— Отравленным?! — Де Лорнэй сжимает в кулаке игральные кубики, которых так и не выпустил, и делает шаг в мою сторону.
Что еще хуже, Чудище поднимает огромную голову и смотрит на меня больными глазами, так, словно я жестоко предала и Дюваля, и его самого.
— Да не я это! — рычу в ответ. Они молчат, и я взываю к их разуму: — Подумайте наконец! Если бы это я его отравила, побежала бы сегодня за вами?!
Кажется, это наконец действует, хотя де Лорнэй и продолжает коситься на меня с мрачной угрозой. Я отношу опустевший поднос на столик возле камина, а Дюваль уже составляет новый план действий:
— Чудище, де Лорнэй, когда уйдете отсюда, ступайте без промедления к Дюнуа. Делайте что хотите, но вы должны быть в отряде, который выедет в Нант. Исмэй!
Я подбегаю.
— Я хочу, чтобы и ты поехала. Будь при герцогине неотлучно, как щит… которым ты действительно можешь оказаться. Не отходи от нее ни на шаг!
— Господин мой, но это не то, для чего посылал меня монастырь, — вырывается у меня.
Хотя, если по совести, я теперь сама толком не знаю, чего требует мой долг перед обителью. Я вспоминаю услышанное от ведьмы-травницы: «Ты взялась служить темному Богу, деточка, но помни — и Ему не чуждо милосердие».
Дразнила она меня или пыталась утешить? И вот, значит, каково Его милосердие? Уж не в том ли оно заключается, что мне не придется убивать Дюваля, ибо он и так умирает от яда? Воистину — темный Бог.
— Может, и не затем, — говорит он. — Но я уверен, знай монахини о ее планах, именно этого и ждали бы от тебя.
Я не отвечаю, и он поворачивается к Чудищу:
— Сделайте так, чтобы она поехала с вами. Плевать, что я болен, плевать, что скажет Крунар или Дюнуа! Везите ее в мешке, если придется. Поклянитесь мне в этом!
— Я клянусь, — рокочет низкий голос Чудища.
Дюваль поворачивается ко мне:
— Я всю жизнь на это положил, Исмэй. Всегда защищал герцогиню, а теперь больше не могу. Друзья мои, прошу, доведите дело до конца вместо меня!
И я не способна отказать, ведь вполне может быть, что это его последняя воля.
— Хорошо, — шепчу. — Я сделаю это.
По телу Дюваля пробегает легкая судорога, как если бы до сих пор его силы поддерживала одна только решимость препоручить нам сестру. Наши взгляды встречаются.
— Спасибо, Исмэй.
Когда Чудище и де Лорнэй нас оставляют, Дюваль, обессиленный, с серым лицом, откидывается на подушки. Весь день мне до смерти хотелось показать ему перстень Крунара и поведать о том, что с ним связано, но бедняжка совсем ослаб — на что ему еще одна забота?
— Ты бы поспал хоть немного, господин мой. Успеем еще поговорить, когда проснешься.
Он что-то произносит, но я не могу разобрать.
— Что ты сказал? — спрашиваю я, наклоняясь к нему.
— Если, — повторяет он громче. — Если проснусь.
Я глажу его по щеке. Недельная борода царапает мне ладонь, но я чувствую, что он так и горит.
— Не плачь, — говорит Дюваль.
Я утираюсь свободной рукой:
— Я не плачу, господин мой.
— Ляг ко мне…
Я не знаю, чего он от меня хочет: чтобы я согрела его своим теплом — или возлегла с ним как с мужчиной.
— Говорят, это самая величественная и блаженная смерть — на ложе с прислужницей Смерти.
Он улыбается совсем как прежде, и что делается у меня в душе, никакими словами передать невозможно. Я хочу заверить его, что он ни в коем случае не умирает, но горло сужается в спазме, и слова наружу не идут. Да и произнести заведомую ложь я просто не в силах.
— Господин мой, — шепчу, — ты слишком болен.