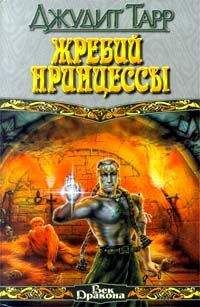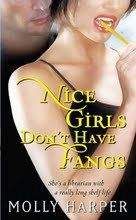— Это ложь, — сказала колдунья, с оскорбительной легкостью читая его мысли. — Ты будешь женщиной целиком и полностью, во всех отношениях. Ты объединишь империи, ты уменьшишь разрушение. — Но остановить его мне не удастся.
— То, что уже началось, — да, но после войны останутся не одни только руины. — Она скрестила руки на груди. — Никого не удивит твой отказ. Что бы ни случилось, ты будешь жить. И тебе не придется жить искалеченным.
Мысль, уже не раз приходившая в голову Саревану, но безжалостно исковерканная. Он сверкнул глазами.
— Я уже и так искалечен. А быть женщиной — это все что угодно, но только не увечье. Но я не создан для того, чтобы стать женщиной.
— Мы можем это проверить, — сказал Орсан. Сареван подскочил.
— Ты? Даже ты согласился бы на это? — Именно я это предложил, — сказал Красный князь. Сареван обессиленно упал на стул. Когда он проснулся, лишенный своей силы, ему казалось, что весь мир рухнул. Но он и не подозревал, что этот мир может рухнуть снова. А потом еще раз. И еще. Не ожидал он и того, что отец его матери, его наставник и учитель, его кровный родственник собственными руками разорвет мир на мелкие кусочки.
— Почему ты считаешь, что это будет столь ужасно? — поинтересовался Аранос. — Ты мечтал найти решение задачи. А решение довольно простое. Ты получишь свою империю и свой мир. Ты получишь моего брата, которого любишь.
— Согласится ли он? — спросил Сареван. — Захочет ли он меня?
— Как ты можешь узнать, пока это не свершится? — Я могу спросить у него.
— Нет, — сказал Аранос. — Это не входит в нашу сделку. Ты, и только ты можешь выбирать. Никто не сделает это за тебя. Сареван горько засмеялся.
— Вот до чего дошло, а? Я, и только я. Мужество или трусость. Мир или война. Жизнь или смерть. Вы думаете, что знаете, чего хотите от меня. А так ли это? Даже ты, магистр… разве ты знаешь?
— Да, — твердо ответил магистр. — Мы не принуждаем тебя. Это непростая магия и ужасная боль. Все твое тело будет разодрано на кусочки и составлено заново. То же самое произойдет с твоим разумом и с твоей душой. Ты пройдешь сквозь солнечное пламя, медленно, невыразимо медленно, не зная благодатного забытья.
Сареван невольно содрогнулся. Но он сказал: — Вы говорите, что Хирел будет жить. — И твой отец тоже, — произнес маг, который все это время хранил молчание.
Сареван обернулся и взглянул на него. Маг говорил правду. Он сказал это без радости, как будто из чувства долга, ради самой правды. Но он был слугой тьмы. От его взгляда волосы на затылке встали дыбом.
В этом взгляде таилось что-то чужое. Тьма. Холод, не знающий солнечного тепла. И вплетенное в этот мрак одобрение, которого Сареван никак не ожидал увидеть. Маг мирился с тем, что Солнцерожденный останется жив, если равновесие вновь установится.
— Ты лжешь, — сказал Сареван голосом, напоминавшим тихое рычание.
— Но только не в этом, — возразил Байран, светлая сторона темной тени, не лгавший никогда. Мирейн останется жив. Хирел будет жив. Война кончится. Такой ценой. Такой дорогой ценой.
Сареван сжался. Вот оно, его прекрасное гордое тело, только-только проснувшееся для наслаждения объятиями женщины, единственной женщины из всех существующих, которая все еще могла стать его женой и его королевой. Он гордился этим больше всего на свете, если не считать его магической силы, которую потерял. Так неужели он должен потерять еще и это? Останется ли у него хоть что-нибудь?
Мирейн. Хирел. Две объединенные империи. Ребенок. Они обещали это. Плоть от плоти.
Даже если это будет плоть женщины. Он не боялся этого. Однажды он уже родил ребенка.
Все ждали. Сареван мог прочесть их мысли. Даже темного мага. Они не станут презирать его, если он откажется от выбора. Орсан никогда не испытывал этого, да и никто из них не испытывал. Магистр, с которым это произошло, когда-то был женщиной и прошел в глазах мира путь от меньшего к большему.
Сареван снова встал. У него подгибались колени, и он напряг их, найдя опору в своем ужасе. От него требуют слишком многого. Он не способен на это. Он принц королевской крови, опытный воин. Он готов умереть за свою империю. Готов даже пойти на предательство ради ее спасения. Но в нем нет самоотречения святых, чтобы пожертвовать всем, что у него есть, и продолжать жить по-другому. Смерть пугала его, но она была концом. А это…
— Я полагаю, — произнес его язык, спотыкаясь и заплетаясь, — что вы должны сделать это сейчас же, пока никто из нас не струсил.
Будь проклят его язык. Будь проклят. Никто не улыбнулся. Никто не выглядел торжествующим. Орсан встал, и Сареван понял, что никогда еще не видел деда таким старым, дряхлым и беспомощным. — Мы сделаем это сейчас, — сказал он.
* * *
Саревана привели в пустую комнату с высоким потолком. Все окна распахнуты, впуская холодный воздух. В центре каменный пол: плита из камня рассвета покоилась на основании из камня ночи. Здесь камни света и мрака существовали в равновесии. С Саревана сняли одежду, расплели косичку и тщательно расчесали волосы; выпутали из его бороды золотые побрякушки, вытащили изумруды из ушей, сняли с шеи обруч. Он лежал на столе, обнаженный, как в день появления на свет, не чувствуя ни напряжения, ни колебания. Он лишь слегка вздрагивал. Его кожа, приготовившаяся к прикосновению холодного камня, не ожидала, что почувствует тепло, как в жаркий солнечный день. Камень рассвета узнал, кто был его предком; хотя стоял уже светлый день, он начал мерцать и вспыхнул во всем великолепии утреннего неба.
Благословенное забытье не раз спасало Саревана, но теперь ему было отказано в этом. Его разум кричал и боролся, не в силах найти пути к спасению. Его тело безвольно лежало там, куда его поместили. Он даже не мог взмахнуть рукой в прощальном жесте.
Маги стояли вокруг него, образовав круг теней на фоне яркого света, льющегося из окон. Одна из теней наклонилась. Дед очень нежно поцеловал его в лоб. Они не обменялись ни словом. «Останови меня, — пытался взмолиться Сареван. — Не дай мне сделать этого».
Красный князь выпрямился. Его руки взметнулись. В них собиралась сила.
Сареван закрыл глаза, глубоко и ровно дыша. Он все еще мог видеть. Колдовское зрение. Они даровали ему это, возможно, полагая, что проявляют милосердие. Но они забыли… какой горькой будет эта ясность.
Мало-помалу его дыхание остановилось, а вместе с ним улетучился страх. Этим выбором он обязан не своему языку и не своему безумию. Это свершилось в глубине его души. Мир не знал подобного выбора, сделанного ради великого дела, и вряд ли это еще когда-нибудь повторится.