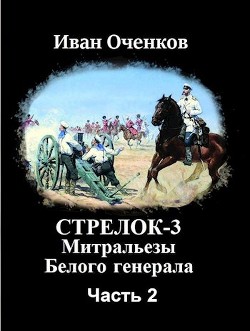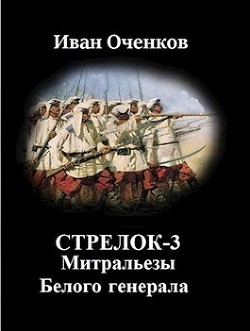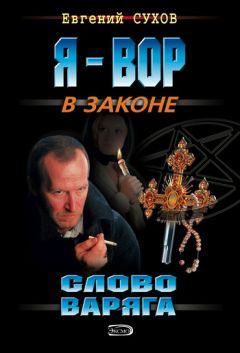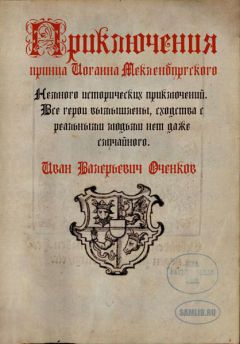— Дык, сколько туда ее влезет? — простодушно удивился один из молодых матросов. — Кубыть трети довольно было бы.
— Пустыня кругом, дурик! — цыкнул на него унтер, погрозив кулаком. — Выкипит, глазом моргнуть не успеешь!
— Ну, рази что выкипит, — поспешно согласился тот, уважительно поглядывая на пудовые кулаки Нечипоренко.
Тут появился тяжело нагруженный припасами Шматов и вопросительно посмотрел на своего «барина», дескать, куда это все девать? На обоих плечах денщика висело по хурджину с разнообразной снедью, закупленной перед походом у Петросяна. Рядом с ним, тяжело дыша, стоял матрос, у которого припасами заняты не только плечи, но и руки.
— Тащи туда, — скомандовал Будищев, и, стряхнув с себя усталость и апатию, бросился укладывать принесенное.
Артиллерийские офицеры в походе — самые счастливые люди, оттого, что в передках и зарядных ящиках их пушек всегда довольно места, которое можно употребить не только под бомбы, шрапнели или заряды. Поэтому-то у них на бивуаках всегда найдется выпивка и закуска, вызывающая неизменную зависть у пехоты. И хотя, моряки в сухопутных делах были ещё очень неопытны, и даже не подозревали о некоторых тонкостях походной службы. Зато у кондуктора, ставшего волею судьбы командиром взвода, опыта хватало на целую дивизию, и теперь он беззастенчиво пользовался выпавшими ему возможностями.
— Ашот не бухтел? — поинтересовался Будищева у Шматова.
— А что ему? — удивился тот, не зная всех подробностей взаимоотношений маркитанта и «барина». — Расплатились мы с ним честь по чести, пусть радуется, что таковые клиенты есть.
— И сильно радовался?
— Ну кривил рожу маленько… может зубы болели?
— Наверное.
Тут на батарее наконец-то появился уставший как черт Майер в сопровождении матросов, тащивших последние мешки и ящики с припасами.
— Кажется, все, — выдохнул гардемарин, обессиленно прислонившись к передку. — Ты не представляешь, сколько нервов мне стоила эта подготовка!
— Поздравляю, — отозвался Дмитрий, вытирая руки ветошью.
— Издеваешься?
— Ну что вы, ваше благородие. Как можно-с!
— Кстати, я пока стоял в очереди переговорил с несколькими офицерами из Таманского полка, — многозначительно начал Майер.
— И о чем тебе поведали казачуры?
— Ты напрасно иронизируешь, мой друг. Многие из них встали на сторону Бриллинга и настроены крайне решительно.
— Что, прямо все?
— Нет, не все. Я бы сказал, что мнения разделились.
— Саш, не тяни кота за хвост, а лучше сразу скажи, что там за фигня?
— В общем, большинство полагает, что как только поступит известие о твоем производстве, Бриллингу следует прислать секундантов.
— На это он вряд ли решится. Скорее, наш бывший гвардиозиус попытается пришить меня до этого знаменательного момента.
— Зачем ты так говоришь? — возмутился гардемарин. — Я допускаю, что он тебе неприятен, но зачем же оскорблять человека?! Насколько я знаю, никто не может сказать, что у него нет чести…
— Никто, — охотно согласился кондуктор, и после короткой паузы добавил: — Никто, кроме офицерского собрания лейб-гусарского полка и меня.
— О чем ты говоришь?
— Не бери дурного в голову, Сашка. Лучше давай сегодня отдохнем, а то завтра вставать ни свет, ни заря.
— Ты думаешь?
— Я знаю. Пока всех запрягут, пока навьючат… бедлам тот еще будет. Так что приходи утром завтракать, я что-нибудь сварганю.
— Удивляюсь, зачем тебе твой Федор, если ты все можешь делать сам?
— Не все. Верблюда завтра он будет навьючивать. И лошадей запрягать. Кстати, как и твой Абабков… Слушай, есть тема!
— Какая еще тема?
— Нам ведь с тобой положено по верблюду, так ведь?
— Так.
— Во-от! А если запрячь их в арбу, то груза эти два дромадера, утащат вчетверо больше!
— Заманчиво, — задумался гардемарин. — Только где же мы возьмем арбу, да еще и с упряжью?
— Хм, вопрос, конечно, интересный, — задумался кондуктор.
Найти арбу — задача и впрямь нетривиальная. Весь транспорт, что имелся в Бами и его окрестностях, принадлежал либо интендантам, либо маркитантам. И совершенно очевидно, что ни те, ни другие не захотят расстаться с ним ни за какие коврижки. Правда, есть еще жители окрестных аулов, и тут могут быть разные варианты… По лицу Будищева видно, что он поочередно обдумывал их все, пока, наконец, не пришел к какому-то одному.
— Федька, ты где? — позвал он денщика, но тот отчего-то не отозвался.
Как оказалось, Шматов сидел у их палатки и, вооружившись копировальным карандашом[2], что-то старательно выводил на клочке бумаги, высунув от усердия язык. Деликатность никогда не входила в число добродетелей Будищева, а потому он беззастенчиво заглянул приятелю через плечо и громко прочитал:
— Здравствуй, дорогая моя и ненаглядная Аннушка. Ты уж прости меня за то что я уехал не попрощавшись, а только отпустить Дмитрия Николаевича одного мне было неспособно. А ты бы меня не отпустила, хоть я бы все одно уехал…
Дмитрию на минуту стало стыдно. Ему за все время так и не пришло в голову написать хоть пару строк о своем житье-бытье Гесе или Стеше. Он вообще не привык писать письма. В прошлой жизни было особо некому. Невесты он так и не завел, а спившимся родителям не хотелось. Да, если честно, он и не знал, живы ли они, или быть может, уже умерли, сгинув в пьяном угаре.
— Я тут это…, - смутился Федор, прикрывая листок рукой, — а то мало ли, в бою ить всякое бывает.
— Ну-ну, — с деланым безразличием пожал плечами кондуктор, — пиши, писатель. Можешь от меня привет передать.
— Ага, — с готовностью отозвался приятель, и снова взялся за карандаш, но тут его снова прервал, на это раз Майер.
— До чего же скучно ты пишешь, братец, — заявил он. — Если уж взялся за письмо к женщине, так не поленись и добавь каких-нибудь описаний. Окружающих красот, или еще чего.
— Скажете тоже, ваше благородие, — ухмыльнулся Шматов. — Какие уж тут красоты? Одна сплошная степь кругом, да жара, а более и нет ничего.
— Эх, Федя, ничего-то ты не понимаешь в загадочной женской натуре!
— Ты сам-то давно таким знатоком стал? — ухмыльнулся про себя Будищев, но, решив не прерывать товарища, с интересом прислушивался.
— Ну вот послушайте, — продолжал разливаться соловьем гардемарин: — Громадные, нависшие над пустыней скалы, покрытые темной зеленью кипарисов, освещенные бледно-розовым светом восходящего солнца…
— Тебе бы книжки писать, — не выдержал высокого стиля кондуктор.
— А что, может, и напишу!
Федор некоторое время прислушивался к их беседе, но затем тряхнул головой, будто отгоняя наваждение, и продолжил свою работу:
«…Дмитрий Николаевич велел тебе кланяться и просил сильно на меня не гневаться, потому как ему одному тут совсем бы худо пришлось. Вдвоем-то оно куда как способнее. А ты коли будешь у госпожи Берг по какому делу или просто в гостях, так поклонись ей и Степаниде с Семеном от нас обоих. Да скажи, что тут совсем не опасно, и сражениев никаких покуда нет. Правда, Графа, то есть Дмитрия Николаевича, еще одним крестом наградили. Он даже смеялся, дескать, скоро на спину вешать придется. За сим прощаюсь, потому как надо собираться, а оказия письмо отправить когда еще будет. Верный тебе запасной ефрейтор и егориевский кавалер Федор Шматов».
Хорошенько поразмыслив над словами Будищева, Майер все же решил, что просто отправиться спать накануне похода не годится и надо пойти к маркитанту, с тем, чтобы немного развеяться напоследок, да попрощаться на всякий случай с приятелями, остающимися в Бами. Как водится, «немного» не получилось, и он подобно многим другим офицерам как следует надрался. Отчего к себе в палатку вернулся хоть и на своих двоих, но при дружеской поддержке лейтенанта Шемана. Доставив подчиненного до места, командир батареи передал его молодое и совсем еще недавно полное сил тело вестовому, после чего счел свой долг старшего товарища исполненным.
— Абабков, а где Будищев? — покачнувшись, спросил он у матроса.