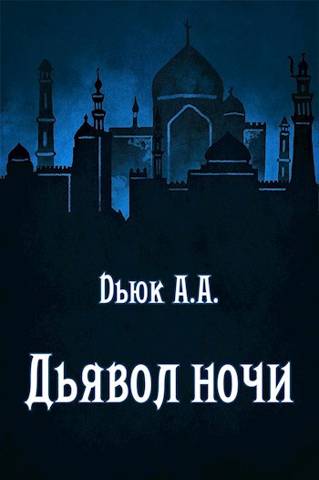Алькима. Поговаривали, тот баловался колдовством, вызвал иблиса из Фара-Азлия, который его и прикончил. А кто-то утверждал, что иблис сам к нему явился и покарал на грехи, богохульства или просто за то, что тот был иностранцем.
В общем, самой неравнодушной, сообразительной и говорливой части шамситского населения не потребовалось много времени, чтобы связать одно с другим и установить точную причину смерти Карима ар Курзана. Он, известный на весь Шамсит распутник, к своим тридцати пяти годам даже не помышлявший о женитьбе, осквернявший святые узы брака и транжиривший семя направо и налево, подбивая на развратный грех честных жен уважаемых сайиде, получил наконец-то свое и навлек на себя гнев и ярость Исби-Лина, дьявола ночи, убивающего, как известно, только отъявленных грешников.
Менее сообразительные и более равнодушные, впрочем, подозревали, что истинная причина смерти Карима ар Курзана кроется в неприятных сплетнях и слухах, объектами которых братья были последние месяцы. Однако об этом говорили редко и очень тихо. Еще тише и реже вспоминали, что в трущобах часто видели каких-то подозрительных иностранцев, шнырявших по развалинам и заброшенным домам и пристававших к нищим со странными вопросами. Праведная жизнь или грешная, а длинный язык уж точно до добра никогда не доводит.
Тем не менее череда неприятных событий и загадочных смертей, захлестнувших Шамсит, имела и положительные последствия. Особенно для мечетей. По странному стечению обстоятельств даже те, кто раньше не находил времени для намаза, стали общаться с Альджаром через его посредников на земле значительно чаще, а жертвовать на богоугодные дела — щедрее.
— Красота-то какая, хак-ир он-ам яляб!
Ярвис Эндерн стоял на куполе Масар-Найям, маяка в Балурском заливе, одного из самых высоких строений, когда-либо возведенных человеком, и с высоты шестисот футов взирал на раскинувшийся внизу Шамсит. Он видел глубокий Балур-калидж, к причалам порта которого ежедневно швартовались сотни больших и малых кораблей и еще сотни ждали своей очереди на ближнем и дальнем рейдах. Он видел символ страха — Тарак-Мутаби и символ кабирской мощи — Ядид-Калеат, надежно охраняющий Шамсит и запирающий гавань. Он видел выжженную на солнце и изъеденную коррозией скалу, отделяющую город от порта. И видел сам Белый город — необъятного исполина, покоящегося на землях полуострова Сакил-Алул.
По слухам, здесь жило больше двух миллионов человек, больше, чем в имперской столице. А ведь когда-то Эндерн считал, что крупнее той деревни не увидит за свою жизнь ничего и никогда. Пока не оказался в Шамсите.
Всюду, сколько мог охватить человеческий глаз, тянулись бесконечные улицы, застроенные белыми известняковыми домами, виднелись площади и базары, минареты мечетей и дворцов подпирали небо, мосты соединяли берега извилистой Ам-Нахар и ее притоков, разрезавших Шамсит на Верхний и Нижний город. Шамсит велик и бесконечен, город тысячи дворцов, что казалось Эндерну довольно грубыми, неточными и явно заниженными подсчетами — ведь каждый дом Верхнего города можно смело назвать произведением архитектурного искусства, если бы полиморф хоть что-то в этом понимал. Его ума хватало лишь на умозрительное заключение, что даже роскошь Верхнего города меркнет в сравнении с венчающим Холм Царей Азра-Касар, Лазурным Дворцом шах-ан-шаха, Великого султана Мекметдина.
— Лепота, драть меня кверху жопой!
Оборотень потянулся, вдыхая холодный воздух, зажмурился от яркого утреннего солнца в милостью Альджара вечно голубом небе над кабирской столицей и вдруг развернулся на носке правой ноги, балансируя руками. Взглянул на бескрайнее Ам-Альбаар, сливающееся за горизонтом с синевой неба. Довольно почесал худую грудь. А потом, фальшиво насвистывая незатейливый мотив, неторопливо расстегнул штаны и осуществил свою давнюю мечту и намеченную еще в Ландрии цель прямо в море.
После чего с чувством выполненного долга широко зевнул и по-птичьи встрепенулся, раскинул руки, плавно откинулся назад и сильно оттолкнулся ногами от купола маяка.
Никто не заметил, как человеческая фигура, камнем бросившаяся вниз, вдруг сжалась, и большой филин, бесшумно расправив крылья, полетел в сторону Тарак-Мутаби.
Шамсит не замечал подобных мелочей. Шамсит стремился успеть за день как можно больше, чтобы не потревожить ночных духов Эджи.
* * *
Часовой тоскливо вздохнул, с нетерпением думая о смене. Оставалось недолго, то есть наступило самое томительное и трудное время ожидания, но он стоически терпел, подбадривая себя тем, что скоро вытянет ноги на койке в казарме и проспит сном праведника до самого рассвета. И не приведи Альджар, придется устроить охоту на льва, тогда кому-то очень не поздоровится, ибо солдатский сон священен в любой армии мира.
Часовой потряс затекшими ногами и вновь вздохнул с безграничной тоской. Ему, конечно, повезло — достался караул в северной башне, обращенной к морю, подальше от настырных глаз, а в темноте этельской ночи так и вовсе можно подпереть собой стенку, пока мукариб-накиб и Альджар не видят. Главное, не заснуть, поскольку высшие чины всегда приходят с проверкой именно в такие моменты. Однако из всего набора развлечений на этом посту есть разве что наблюдение за Ам-Альбаар, а это не самое увлекательное занятие. Из-за этого караул тянулся бесконечно долго, и часовой чувствовал, как с каждой минутой тупеет и проигрывает неравный бой с сонливостью.
Вероятно, он даже задремал, опершись на ружье, поскольку внезапный шорох заставил встрепенуться и инстинктивно встать смирно. Мукариб проморгался под бешеный стук в висках от страха, что его застукали спящим на посту, но к облегчению оказалось, что это всего лишь ночная птица, усевшаяся на зубец башни. В тусклом свете фонаря большой филин, недовольно нахохлившись, уставился на часового немигающими желтыми глазами. Часовой уставился на филина в ответ, и тут им овладела смутная тревога. Он не первый раз за день видел эту наглую птицу. Она как будто следила за ним почти везде чуть ли не с самого утра. Изучала. Глупость, конечно, это же всего-навсего птица, однако сов в Шамсите не любили. Считали их прислужниками духов Эджи. Увидеть сову или филина — дурной знак, к большой беде и несчастью.
Часовой гневно раздул ноздри и махнул свободной рукой, отгоняя потерявшую страх птицу. Филин вздрогнул, расправив крылья, но и не подумал улетать, высокомерно разглядывая человека. Мукариб от такой наглости заскрипел зубами, перехватил ружье обеими руками и замахнулся прикладом. Филин отпрыгнул к краю зубца, ворчливо, почти по-человечески ухнул и взмыл ввысь, скрывшись в темноте. Часовой ухмыльнулся, радуясь победе, подкрутил ус и вытянулся, чувствуя, что казус с ночным нарушителем взбодрил, придал сил и хоть немного поднял настроение. Так он и продолжил караул, предвкушая вожделенную смену и скорый заслуженный отдых.
Однако что-то заставило его обернуться. Какой-то едва слышный звук за спиной, чье-то присутствие. Мукариб повернулся на пятках, поднимая ружье наизготовку, и застыл, вытаращив глаза. Перед ним стоял… он сам. Только в старой и потасканной одежде и с занесенными руками с удавкой.
Мукариб потрясенно уставился на мукариба. Мукариб в ответ уставился на мукариба с ненавистью.
— Хаам, мудила, — бросил второй и накинул удавку на часового, обернул вокруг шеи и со всей силы затянул петлю.
Часовой захрипел, выронив ружье, заколотил по рукам душителя, краснея от удушья, слабея и теряя сознание, и начал бессильно оседать на каменный пол.
— Посмей только обоссаться! — полушепотом погрозил Эндерн по-кабирски, медленно опускаясь следом за часовым.
Уже на полу он еще некоторое время для верности затягивал петлю. Потом проверил пульс на еще теплой шее, удостоверяясь, что мукариб мертв.
— Извиняй, приятель, — Эндерн похлопал часового по груди и приподнялся, осматриваясь по сторонам. Несмотря на то, что его глаза были сейчас обычными карими, как у большинства кабирцев, в темноте он видел отлично. В конце концов, чужой облик был всего лишь иллюзией. Сложной и осязаемой, но всего лишь иллюзией. В отличие от птичьей формы.
Удостоверившись, что никто ничего не заметил, Эндерн быстро скинул старую куртку, а затем лег на пол рядом с покойником, стаскивая сапоги.
Через несколько минут он поднялся, отряхивая пыль с мукарибского мундира и передергивая плечами. Военная форма была неудобной и неприятной — Эндерн почувствовал себя униженным, — сапоги жали, сабля непривычно оттягивала пояс и мешала, что раздражало и без