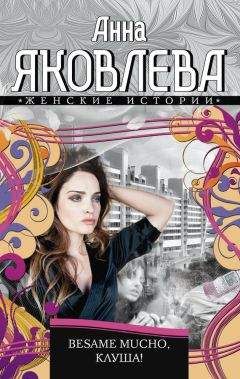не до этого. Он снова был на дворе, охраняемом громадным псом. Верный страж хозяйских построек, видимо, находился по другую сторону дома и нового появления чужака покуда не почуял. Гарик оттолкнулся от телеги, рядом с которой оказался при переносе, и принялся озирать землю вокруг. Почва была мягкой, и далеко укатиться массивный перстень не мог. Небо померкло. Вечерние тени сгущались все плотнее, но закатный луч пробился сквозь ветви берез, что росли у забора, и отразился в чем-то блестящем, что валялось всего-то в двух шагах от ног горе-путешественника во времени. Он шагнул, нагнулся, поднял. Слава богу, это было ОНО! Сзади раздался грозный рык. Иволгин метнулся обратно к телеге, провел ногтем по колечку одного из соглядатаев и… услышал-таки визг консьержки. Только что исчезнувший у нее на глазах гость жильца квартиры номер четырнадцать появился снова. И почти на том же самом месте!
Живописец не дал ей прийти в себя. Выскочил из подъезда и кинулся к своему авто. Через десяток минут он уже входил в мастерскую. Гостья уже проснулась, умылась, причесалась и теперь осваивалась на кухне, пытаясь, видимо, что-то приготовить. Заслышав лязг открываемого замка, она кинулась в прихожую, забыв, что в руке у нее нож. Увидев хозяина мастерской, она сначала радостно улыбнулась, а затем прыснула в кулачок. Гарик машинально глянул на себя в зеркало, и сам едва не расхохотался. Вид у него был тот еще. Рубашка вылезла из штанов, волосы всклокочены, и в них торчат травинки из стога, в который он спикировал. Извинившись, он нырнул в ванную, где наскоро привел себя в соответствие с представлениями о том, что в человеке все должно быть прекрасно. Пока он умывался и вычесывал сено из шевелюры, Ася соорудила некое подобие обеда. Во всяком случае – запахи из кухни доносились притягательные. Живописец почувствовал, что изрядно проголодался.
Выяснилось, что гостья приготовила из мяса и картошки некое подобие жаркого и нажарила блинов. Иволгин порадовался, что у него в загашнике завалялась баночка красной икры – к блинам самое то. Да и жаркое получилось у девушки, которая родилась в эпоху пижм и напудренных париков, превосходное. Во всяком случае, хозяин мастерской уплетал его за обе щеки. К такому обеду полагалось бы подать бутылочку вина, но Гарик с сожалением отверг эту идею. Предстоящее требовало трезвости. За обедом он пересказал Асе свои сегодняшние злоключения, упирая более на юмористическую их сторону. Девушка охотно посмеивалась над его несколько преувеличенными описаниями собственных похождений, и все же в ее зеленых глазах мелькала тревога. Когда тарелки опустели, художник хотел по привычке вымыть посуду, но его гостья запретила это делать, давая понять, что мужчине больше нечего делать на кухне.
Иволгин спорить не стал. Ему и впрямь нужно было немного отдохнуть и собраться с мыслями. Едва он опустился на диван, как затрезвонил телефон. Это был Щербатов.
– Вот что ты меня втянул? – с ходу начал жаловаться поэт. – Оставил с двумя бандюганами и полицейскими, которые их немногим лучше, и смылся куда-то!
– Тебя уже выпустили? – спросил художник.
– Да. Заставив написать объяснительную, будто это я вломился к этим алкашам, а не они ко мне!
– Алкашам? – удивился Гарик.
– Ну да! Они у меня под шумок «Курвуазье» вылакали, аккурат перед твоим приходом.
– Ну и что с ними теперь?
– Не знаю… Или в каталажку определят, или сразу в дурку… Они такую несли околесицу, про чернокнижника какого-то, кольца, пропащие души… Кстати, я видел, как ты у них колечки попятил. Ценные хоть?
– Ты вот что, дружище, – проговорил Иволгин, – кончай трепаться. Приоденься и дуй ко мне! Я тебя кое с кем познакомлю.
– Да ты с ума сошел, – заныл Щербатов. – Какие могут быть знакомства? После такой встряски мне надо неделю отлеживаться.
– С прекрасной девушкой, – зная слабость приятеля, продолжал настаивать Гарик. – Только, чур, вести себя как джентльмен и глаза бесстыжие не пялить.
– Ты же меня знаешь! – совсем иным тоном отозвался поэт.
– Собирайся, да поживее. Здесь я тебе все объясню и про колечки, и про бандюганов твоих.
Любопытство было второй слабостью Щербатова, поэтому он нехотя пробормотал:
– Ладно, минут через пятнадцать буду.
– Вот и славно! Жду!
Художник прервал соединение. В том, что приятель придет, он не сомневался. При всех своих слабостях и недостатках он был честным и преданным другом. Пусть побудет в мастерской с Асей, покуда он, Иволгин, отыщет проклятый манускрипт колдуна. Щербатов прибыл минут через двадцать пять, зато – при полном параде. Серый костюм-тройка в серебристую полоску – в такую-то жару! – накрахмаленный воротничок, туго стянутый галстуком-бабочкой, лаковые туфли, которые скрипели на ходу. «Вот же старый ловелас, – подивился художник. – Приготовился-таки к осаде женского сердца… Пусть только попробует, душу вытрясу!» И все же он был рад тому, что Ася не останется одна. Кирка, если опять явится, при Щербатове не осмелится права качать. Художник пригласил друга в гостиную, сдвинув мольберт с холстом в угол. Заранее предупрежденная гостья тоже встретила поэта во всеоружии. Так что знакомство вышло вполне светским. Ася присела в реверансе. Лавр Щербатов поцеловал ей руку. Гарик с трудом дождался, когда они закончат расшаркиваться друг с другом.
– Ася, угощайте гостя чаем с блинами, а я покуда займусь нашими делами, – распорядился художник и направился в спальню.
– Э-э, – попытался остановить его поэт. – А ты вроде хотел мне что-то рассказать…
– Вот Ася тебе все и расскажет, – сказал Иволгин. – Только прошу верить каждому ее слову, как бы фантастически это ни звучало.
– Разве можно не верить столь очаровательной девушке, – промурлыкал поэт.
Ну все, завел шарманку! Художник погрозил приятелю кулаком и скрылся в спальне. Из нее он появился уже при полном параде, в кафтане и панталонах, чулках и туфлях, треуголку сунул под мышку. Щербатов уставился на него, открыв рот, но Гарик лишь подмигнул ему. Подойдя к девушке, он протянул ей перстень.
– У меня теперь есть кольцо, даже два, – проговорил он. – Ваше пусть останется у вас, но прошу без меня в свой век не возвращаться.
– Я постараюсь… – почти прошептала Ася и добавила: – Будьте осторожны, Игорь!
– Я постараюсь, – ответил он ей в тон и зашагал к выходу.
Бог – свидетель, как же ему хотелось остаться! И не потому, что он опасался, что Щербатов начнет охмурять его возлюбленную. Разумеется – начнет, но силу своих мужских чар поэт обычно сильно преувеличивал. Многоженцем его сделало вовсе не обаяние, а исключительная доброта к женщинам, которых, как ему казалось, он соблазнил. Не он их, а они его соблазняли, зная, что этот знаменитый поэт-песенник отдаст последнее, лишь бы бывшие возлюбленные не чувствовали себя