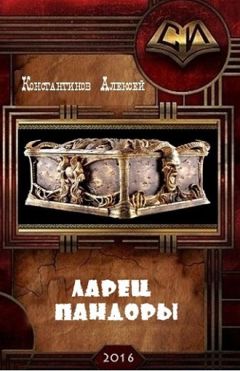Патрульный самолёт вступил в бой, едва добравшись до поезда. И вовремя вступил, прикрыв своего дара от напасти.
– А ты говоришь, зачем нам аэроплан поблизости, – ворчит Нестор, отвечая на давным-давно заданный Помпилио вопрос. – Да на всякий случай!
– Самолёт? – Изумлённый Спичка задирает голову и провожает проревевший над вагоном биплан долгим взглядом. – Ты что-нибудь понимаешь?
Стрёкот двигателя, упавшая на лица тень, а чуть раньше – пулемётная очередь.
– Приотские опознавательные знаки, – морщится Шиллер. – Похоже, отцепленные солдаты кому-то пожаловались.
Останавливать поезд приотцы вряд ли станут, но на вокзале убинурский скорый наверняка ждёт «тёплая» встреча. Особенно после доклада лётчика, который, правда, не улетел, а продолжал сопровождать поезд, держась в сотне метров слева от первого люкса.
– Времени у нас мало.
– Согласен.
И террористы бегут на второй уровень.
Обывателям кажется, что Хоэкунс – что-то вроде школьного предмета. Что ему учат, ставят оценки, и, если баллы низкие, экзамен можно пересдать. Никто, правда, не знает, как пересдать пулю в грудь, но о таких мелочах широкая публика не задумывается. И ещё обывателю кажется, что люди отправляются в Химмельсгартн, чтобы научиться стрелять. И обыватель крепко заблуждается, потому что стрелять учат в тире.
А познание Высокого искусства помогает в достижении цели.
Резь в ноге, отголоски взрыва в голове, обрывки тумана перед глазами, расплывающиеся фигуры – мешающие факторы. Не обращать внимания. Преодолеть.
Помпилио поднимается медленно, опираясь плечом о стену, и всхлипнувшей Амалии кажется, что всё напрасно, что шатающийся мужчина физически не способен помочь. Амалия не понимает, что перед ней бамбадао. Пусть почти калека, пусть оглушён и ещё не пришёл в себя – пусть. За спиной у этого человека годы жесточайших тренировок, и даже сейчас, больной, оглушённый, почти калека, он по-прежнему лучше всех.
Помпилио на ногах. Плачущей Амалии кажется, что «Близнецы» едва не вываливаются из его ослабевших рук, что их длинные стволы бесцельно и бестолково вертятся в стороны. Амалия видит полуприкрытые глаза адигена, ужасается, ещё через миг замечает появившееся на лице Помпилио выражение отрешённого умиротворения и впадает в панику:
«Сейчас он потеряет сознание!»
И как раз сейчас он открывает огонь.
Картина простая: в вагон два входа, справа и слева. С теми, кто лезет справа, идёт огневой бой. Неумелый и обыкновенный держат оборону. У неумелого в руках бамбада, но его трясет, и великолепное оружие бессильно. Обыкновенный в крови. Они стреляют наугад, не видя противника, не попадают, но продолжают стрелять, не понимая, как много могут рассказать пулевые отверстия в стенах.
Тому, кто умеет слушать звуки выстрелов и читать по стенам.
Помпилио поворачивается вправо, поднимает руки, и «Близнецы» шлют крупнокалиберные приветы в дым и дырявые стены. Приветы у Помпилио тяжёлые – «тигриные когти», без труда пробивающие перегородки, – и один из них, самый удачливый, вгрызается Губерту в лоб.
– Нет! – орёт Ленивый.
Губерта выбрасывает в коридор, а вид его тела заставляет неумелого и обыкновенного взвыть от радости. Для них это радость. Для бамбадао – достижение цели.
Бамбадао никого не убивают. Они демонстрируют Высокое искусство.
А ещё бамбадао умеют слышать, и горькое «Нет!» Ленивого становится приговором: два «когтя» летят на голос. Один попадает в плечо, второй царапает щёку. Два следующих вгрызаются в грудь.
Цель достигнута.
Но вопли радости сливаются с пронзительным криком. С детским криком. Помпилио резко разворачивается и видит у противоположной двери вооружённого человека. Ствол карабина направлен на него. Дети визжат. К ним присоединяются горничная и Амалия.
«Зачем они кричат?»
Но эта мысль приходит много позже. Зачем нужны мысли, когда есть цель?
В магазине каждого «Близнеца» по четырнадцать «тигриных когтей», и каждый мечтает вонзиться в цель. Два выстрела с каждой руки сливаются в один грохот. Спичка опрокидывается на Шиллера, открывая Помпилио новый силуэт, снова грохот, визг, а потом – тишина.
Пронзительная тишина.
Умолкают дети и женщины. Недоумённо озираются неумелый и обыкновенный. Демонстрация Высокого искусства окончена.
– Всё, – негромко произносит дер Даген Тур, пряча «Близнецов» в кобуры. – Больше здесь никого нет.
– Мы должны убить Махима…
– Да, да, конечно…
– Куда ты меня тащишь?
– Где безопасно.
– Где?
Вялый голос, вялые жесты… Орнелла даже идти не может – ноги заплетаются, – и не падает только потому, что верная Эбби практически несёт подругу.
– Мы должны убить Махима…
Колотушка успела уйти, пока аэроплан разворачивался. С трудом стащила Орнеллу вниз, а затем – в тамбур второго люкса.
– Сиди здесь.
Стоять Григ не могла.
– Зачем?
– Я скоро.
– Махим…
Голова Орнеллы безвольно падает на грудь. Эбби тяжело вздыхает, осторожно – со страхом ожидая выстрела – приоткрывает дверь тамбура, вновь вздыхает, поняв, что её пока не преследуют, и принимается лихорадочно отсоединять вагоны. Из первого люкса доносятся выстрелы и вопли, в первом люксе всё ещё четверо парней, но Колотушке плевать. Колотушка готова на всё, лишь бы не связываться больше с кошмарной парочкой.
Вопль. Кажется, Ленивый. Плевать.
Последний захват. Ещё выстрелы. Вагоны расстаются. Паровоз с первым люксом спешит в Убинур, остальные будут ждать, когда за ними приедут.
Колотушка вытирает со лба пот и улыбается.
* * *
«Дражайшая моя, Этна!
Ты, конечно, удивишься тому, что я сейчас скажу, и даже, наверное, не поверишь, во всяком случае, поверишь не сразу, но дело было именно так.
Клянусь.
Я спас приотцев.
Нет, не военных – гражданских, как раз военных я в это самое время убивал, хотя… вполне возможно, в поезде могли оказаться военные, к примеру, офицеры высшего ранга, но на это плевать: мы не допустили гибели гражданских, и я… Я горд собой. Честно, дражайшая моя Этна, горд. А особенно мне нравится, что пассажиры убинурского скорого никогда не узнают, кто именно их спас. Нет, наверное, плохо, потому что если бы они узнали, то стали бы относиться к ушерцам иначе. Хотя бы эти люди, пассажиры… Или не стали? Или среди них есть те, кто уже потерял отца, сына или мужа на этой дурацкой войне? И крови между нами столько, что одним подвигом ничего не изменить?