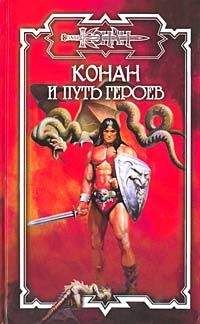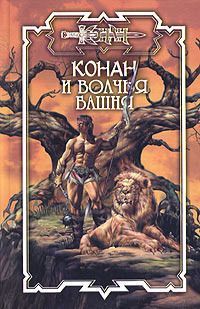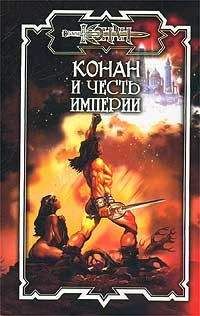С тех пор судьба, явившаяся в образе однорукого ветерана-вербовщика, вознесла бывшего босоногого пастушка до высокой должности десятника легкой кавалерии его милости герцога Пуантенского. За свою жизнь Альмарик навидался всякого, побывал на нескольких войнах, пару раз усмирял крестьянские бунты, однажды даже участвовал в облаве на оборотня, резавшего без разбору то овец на заливных лугах вдоль Алиманы, а то вышедших на постирушки деревенских девок. Притом последних проклятая тварь, прежде чем убить, насиловала самым зверским образом, из чего и стало ясно, что без оборотня не обошлось (историю эту, кстати, десятник обожал за кружкой пива рассказывать новобранцам, добавляя живописных подробностей, но опуская тот факт, что девок убивал кривой шорник из Венгусты, а овец, понятно, жрали волки). Довелось Альмарику столкнуться и с магией, от чего остался у десятника шрам-ожог на левой щеке и верный талисман на шнурке за пазухой, предупреждающий ледяным прикосновением, ежели где-то поблизости творилось волшебство (эту историю десятник рассказывать не любил – больно уж нехорошо пророчил ему привязанный к столбу чернокнижник, когда десятник разжигал под ним костер).
Позапрошлой ночью, когда, по словам часовых на стенах, в полуденной стороне встало в полнеба сиреневое зарево, Альмарик, спросонья нехорошо ругаясь, еле успел содрать кожаный шнурок через голову и отбросить от себя подальше, – но сейчас талисман вел себя исправно, даром что шли они по колдовской земле. Висел себе, постукивая по грудной косточке. Ну, и Альмарик был спокоен. И, когда Пуантенец отмахнул ему в сторону от основной дороги, в груди у бравого десятника ничего не ворохнулось. Его десяток – точнее, полтора десятка верховых, из них шестеро рубаки хоть куда, да и остальные ничего, хотя и городские – повернул за командиром по широкой тропе, уводящей в самую гущу леса, туда, куда указывал почерневший от старости резной идол.
Нехорошо Альмарику стало вскоре, примерно через полколокола, когда тропа кончилась, и они влетели в поселок.
Странный поселок, нелюдской, хотя и не сразу заметишь, в чем отличие. Большой, не меньше сотни домов, и дома просторные, светлые, в один-два этажа, богато украшенные затейливой резьбой. Дерево, обработано каким-то неведомым способом, отчего каждое бревнышко словно бы светится изнутри своим собственным янтарным светом. В лесу было тихо, это Альмарик отметил с неудовольствием: только топот копыт трех с лишним сотен пуантенских коней, и – ни одна птица не поет, вспугнутая сойка не мечется меж деревьев с заполошным стрекотом, ни разу не шарахнулся в кусты вспугнутый олень или заяц. Только огромные сосны стоят почти что правильными рядами, как мраморные колонны в храме, на пышном, мягком зеленом ковре с алыми каплями брусники. Но то в лесу. А здесь – множество едва шевелящихся тел, прямо на земле, еще не вполне просохшей после грозы, и повисший над всем этим стон десятков голосов. Да еще страдальческий рев домашней скотины в стойлах, недоенной и некормленной со вчерашнего. Такое Альмарик видел всего однажды, когда капризная военная фортуна привела их в богатое гандерское село, в одночасье вымершее от красной лихорадки.
Где-то в доме плакал грудной младенец. Десятник соскочил с коня, не глядя, накинул поводья на столбик коновязи, скомандовал хрипло:
– Всем спешиться. Пройдите по дворам, ищите, кто на ногах держится. Кто будет грабить, оторву руки. Через полколокола общий сбор у ворот, – и пошел на этот безнадежный, затихающий плач, вроде бы доносящийся из двухэтажной хоромины с искусно сработанным ястребом на коньке крыши.
Похоже, неведомая беда застигла здешних жителей в постелях, под крышами их удивительных домов, и те, кто хотя бы немного пришел в себя, пытались выползти наружу – то ли помощи искали, то ли просто бездумно стремились на воздух. Одни и те же приметы: скрученные судорогой руки-ноги, оскаленные рты… Воротина, явно тяжеленная и прочная, вся в бронзовых замысловатых поковках, открылась от малейшего толчка. Альмарик шагнул в исхлестанный ночной грозой двор. Два огромных лохматых кобеля рванулись навстречу с лаем, не достали на пядь – десятник отскочил – и повисли, надсадно хрипя, на крепких цепях. У стены амбара, бессильно свесив руки, сидел молодой гуль, почти подросток. Этот оклемался – завидев Альмарика, приподнял голову, стегнул воина взглядом, полным удивления пополам с ненавистью.
– Эгей! – окликнул десятник. – Ты как? Можешь говорить? Что у вас тут…
– Убирайтесь отсюда, – перебил мальчишка тихо, но твердо. – Зачем вы здесь?
– Да мы помочь вам пришли… Где ребенок-то?
– Это не ваше дело… Вам не помочь… Не ходите в дом! Не трогайте…
Но десятник уже взлетал на высокое крыльцо, перепрыгивая разом через три ступеньки. Ребенок смолк. Альмарик метнулся в одну горницу, в другую – пусто, просторно, стол с чистой льняной скатертью, цветное стекло в стрельчатых окнах. Пробежал широким коридором, без единого окна, но непонятно как хорошо освещенным. Большая комната, полная звериных шкур, тяжелых запертых сундуков, по стенам – круглые легкие щиты и непривычного вида сабли. На лавке у стены, вперив стеклянные глаза в потолок – покойник в богатых одеждах. Младенец снова заплакал, совсем тихо, гораздо ближе. Десятник пнул ближайшую дверь и остановился на пороге детской.
Ребенок, лежавший в плетеной из лозы подвесной колыбельке, был голоден и к тому же мокрехонек, но с виду совершенно здоров. Альмарик умело подхватил его на руки (благодарение Иштар, своих таких же двое за мамкину юбку держатся), бормоча что-то бессвязно-успокаивающее и испытывая отчего-то огромное облегчение, поискал взглядом чистую холстину, как вдруг занавеска, отделявшая заднюю часть комнаты, разлетелась беззвучным взрывом.
Руки Альмарику оттягивал орущий младенец, и десятник даже не успел уклониться от налетевшего на него вихря. Что-то острое полоснуло по шее, за воротник немедленно потекла горячая струйка.
Десятник охнул, крутнулся на каблуках, и второй удар пришелся в ключицу, защищенную толстой кожаной курткой. Руки все сделали сами. Младенец каким-то чудом оказался снова в люльке, заходясь пуще прежнего, а Альмарик уже выставил перед собой длинный боевой нож, готовый к отпору, зажимая другой ладонью пораненную шею. Однако нож не пригодился – на третий удар у девчонки не хватило сил, и она едва не завалилась на выставленное смертоносное лезвие. Обычная девчонка лет четырнадцати, смуглая, черноволосая. Глаза безумные, правая ладонь в крови. Бормоча ругательства, десятник спрятал кинжал и бережно усадил незадачливую защитницу к стеночке, рядом с люлькой.