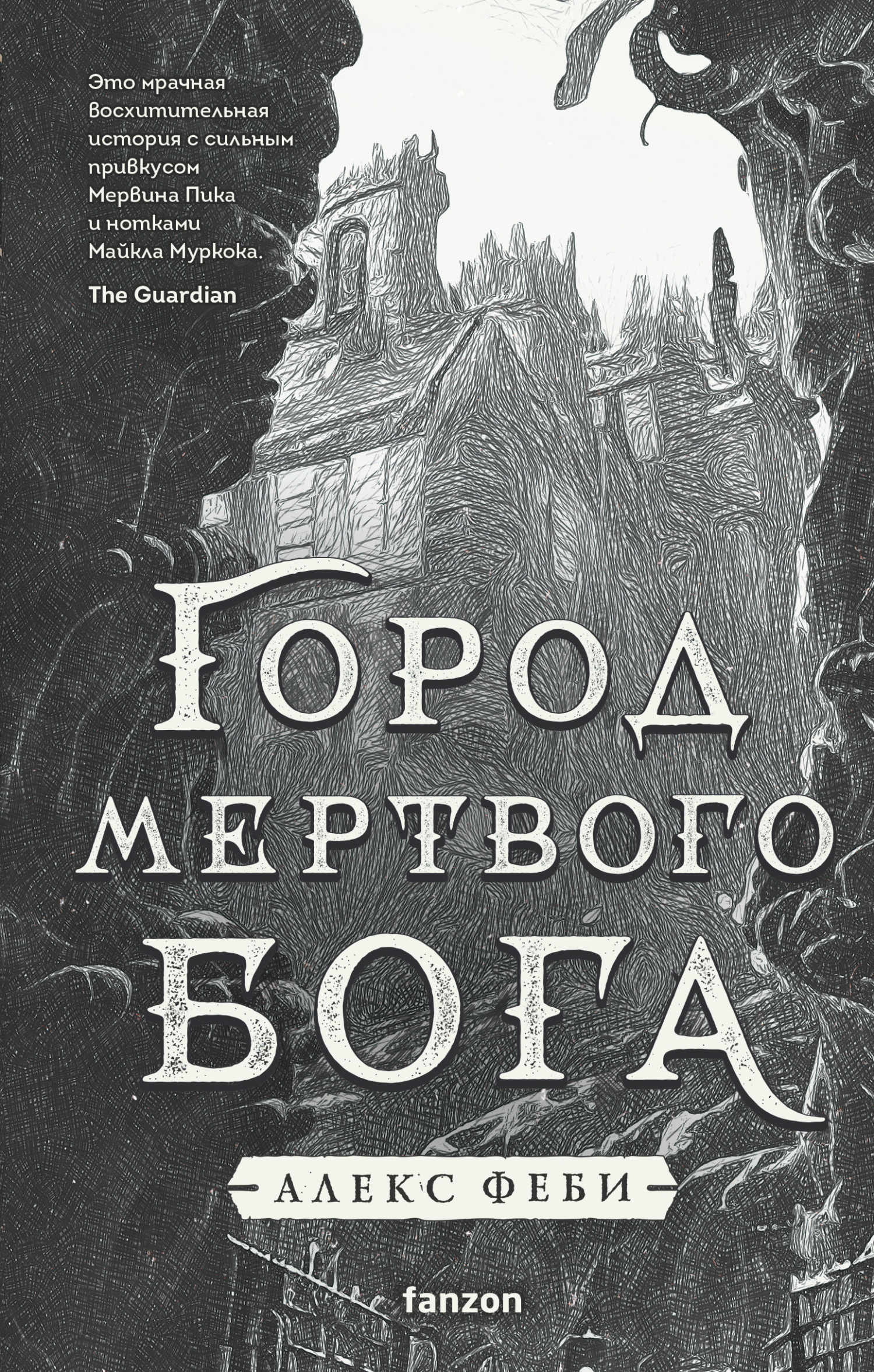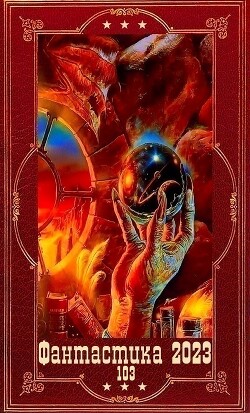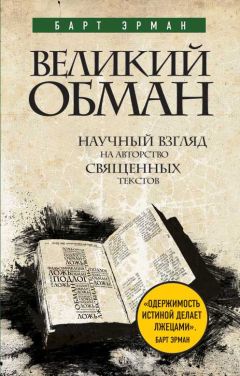ребенка есть что-то такое, что заставляет взрослых прекратить пререкаться, вопрос спорный, однако обе замолчали. Как по наитию поняв, в чем заключалась причина их разногласий, Натан вытянул одну руку и раскрыл ладонь, показывая блестящую кучку монет.
Его мать бросилась вперед, охваченная безумным возбуждением; зубы оскалены, волосы растрепались. Уделив Натану лишь один горящий взгляд голубых, обведенных черным глаз, она схватила деньги.
– Ты сделаешь это!
Его мать швырнула монеты ведунье, и они упали в Живую Грязь возле ее ног. Ведунья закусила губу, подумала, потом медленно опустилась на колени и подобрала их, аккуратно отделяя одну монету от другой и обтирая их от мертвожизни.
– Как прикажете, госпожа.
Ведунья принялась творить свою народную магию, и ее тени встретились посередине простыни, разделившей их лачугу напополам. Две ведуньи сошлись вместе; каждая из теней, пересекаясь с другой, обретала в танце все более четкую форму. В этой женщине было что-то такое, что заставляло свет признавать ее границы: круглая, широкая, с собранными сзади волосами, удлинявшими голову, словно ей перевязали череп при рождении, как было принято у трущобных жителей в северной части города.
Натан смотрел, стиснув перед собой ладони. На что он надеялся? На возможность исцеления? На то, что его отец получит новую жизнь? Было время – хотя это было так давно, что сейчас казалось не реальнее сна, – когда отец высоко поднимал его и держал в воздухе, показывая всему миру. Было время, когда его отец смеялся. Счастливое время, не так ли?.. Теперь по углам шныряли крысы, из теней выползала мертвожизнь, и сама мысль о счастье казалась абсурдной.
Из-за завесы послышалась тихая музыка, высокие тона; не какой-то конкретный инструмент, но, кажется, и не голос. Силуэт трудился над чем-то, растирал что-то между ладонями и подбрасывал результат своей работы вверх над тем местом, где лежал Натанов отец. Порошок из высушенных трав? Пыльцу? Соль?
Натан шагнул вперед. Отец так легко мог раскашляться! Его было так легко разбудить… Мать взяла Натана за запястье, удерживая рядом с собой. Повернувшись, Натан увидел, что она, как и он сам, не сводит глаз с очертаний ведуньи на простыне. В выражении материнского лица было что-то – какая-то безнадежность в положении бровей, что-то неправильное, беспокоившее Натана. Действительно ли она хочет, чтобы эта затея увенчалась успехом? Действительно ли хочет, чтобы ее мужу стало лучше? Казалось, что хочет, но вместе с тем…
Ведунья хлопнула в ладоши. Натан повернулся к ней и увидел, что она покачивается, бормоча, трясясь позади простыни. Вот бормотание приостановилось, тень заколыхалась и начала снова; она текла, словно вода из кувшина, руки извивались, слова повторялись вполголоса – слова, значение которых ускользало от сознания, хотя ухо слышало их вполне отчетливо. Натан узнавал отдельные слоги по краям слов, они совпадали с движениями ее тела, положением рук: жесты, наложенные на звуки, как две карты одна поверх другой.
Пламя свечей хлопало и мигало все чаще, все интенсивнее. Голос ведуньи тоже становился громче, ее заклинания – мощнее, тени – глубже, а силуэт – больше. Появились и запахи: розовые лепестки, анисовое семя… Натан наклонился вперед, и рука матери крепче стиснула его запястье. Он обернулся к ней:
– Это помогает?.. Поможет?
Мать отвернулась от него.
Если ведунья танцевала неохотно, это было невозможно увидеть в тенях, отбрасываемых ею на простыню. Может быть, она действительно пыталась обманом выудить у них деньги, но ее действия ничем этого не выдавали. Наоборот, она двигалась с пугающей решительностью, нимало не пытаясь сдерживать себя, ничем не обнаруживая, что ей есть дело до того, что о ней думают другие; словно танцевала для каких-то невидимых свидетелей, для своей магии, для Бога. Лачуга сотрясалась от силы, с которой ее пятки били в землю; когда она пружиной раскручивалась от поясницы, простыня вздувалась и трепетала от прикосновений ее пальцев. Ее руки были раскинуты в стороны, тени волос плясали вокруг головы, словно огненные языки. Она кружилась и вращалась, угрожая обрушить им на головы хрупкую целостность их дома. Запах ее пота перебивал аромат розовых лепестков, шумные выдохи все чаще прерывали пение заклинаний; она кружилась все быстрее, но не останавливалась.
В тот момент, когда уже казалось, что им суждено быть погребенными под обломками дерева, железа и прочего мусора, ведунья схватилась за простыню, смяв ее в кулаке. Она остановилась, хватая ртом воздух и упершись другой рукой в колено. Позади нее серый, плоский и безжизненный лежал Натанов отец – грудь неподвижна, дыхание заметно лишь в пятнах теней на коже в углублениях между ребрами.
– Бесполезно, – проговорила ведунья. – Черви уже взяли его. Их защищает особая сила. Я ничего не могу сделать.
Мать Натана набросилась на ведунью едва ли не прежде, чем она закончила говорить, но та держалась твердо.
– Деньги не возвращаем! – Она оттолкнула от себя мать Натана, удерживая ее на расстоянии вытянутой руки. – Мне очень жаль. Деньги не возвращаем.
Когда она ушла, Натан снова повесил простыню, а мать скользнула обратно к кровати, сгорбившись так, словно воздух был чересчур тяжел для нее, словно ее плечи не выдерживали тяжести рук. Она уткнулась лицом в подушку.
– Не беспокойся, мам. – Натан положил руку на кровать, и мать придвинулась к ней. – У меня есть еще деньги.
Он раскрыл ладонь другой руки, и в ней заблестели оставшиеся монеты. Мать замерла, потом села и уставилась на него.
– Это не настоящая медь, Натан. Это бронза, покрытая медью.
Натан стоял с монетами в горсти, чувствуя, как на глазах набухают слезы. Он молча сглотнул их.
– Не важно. Дело все равно не в деньгах. Дело в нем, – она дернула большим пальцем в направлении занавеси. – Ему нужно взять себя в руки… И тебе нужно взять себя в руки!
– Оставь его в покое, – сказал Натан. Если бы у него было больше сил, больше своеволия, он бы прокричал это во весь голос.
Мать взяла его за руку.
– И вообще, откуда ты раздобыл деньги? Делал палтусов из Живой Грязи? Искрил?
Охваченный стыдом, Натан опустил голову. Снова поглядев на мать, он увидел, что та грозит ему пальцем.
– Это запрещено, ты ведь знаешь? – На ее лице было странное выражение: вроде бы улыбка, но какая-то кривая, безрадостная, злая. – Никому не разрешается использовать свою силу. Никому…
Она поднялась и отвернулась от него, встав лицом к занавеске, делившей комнату пополам.
– Ты же понимаешь, что будет дальше?
Натан покачал головой, но вопрос был обращен не к нему. Она говорила с его отцом.
Из-за простыни донесся стон в ответ –