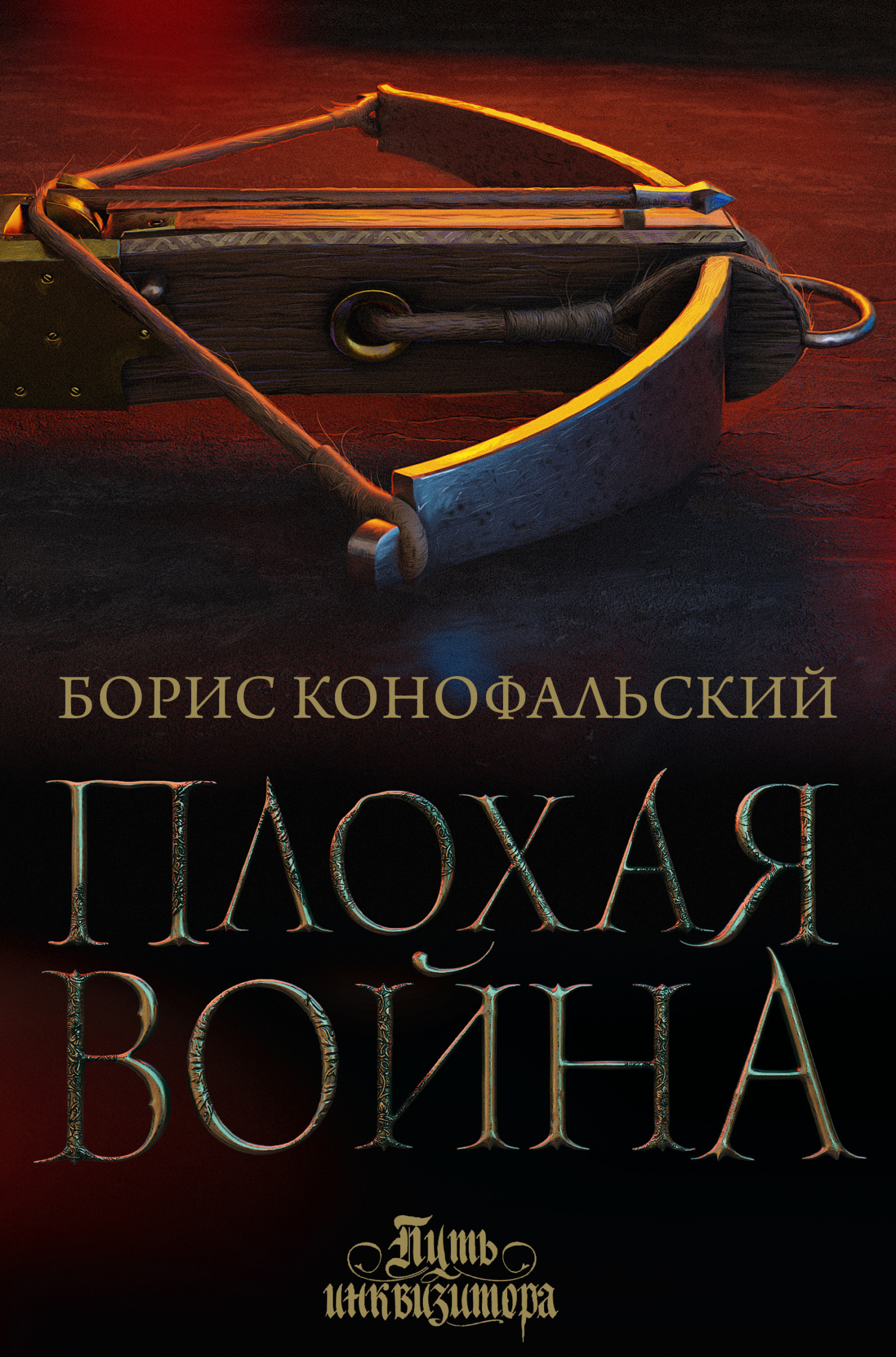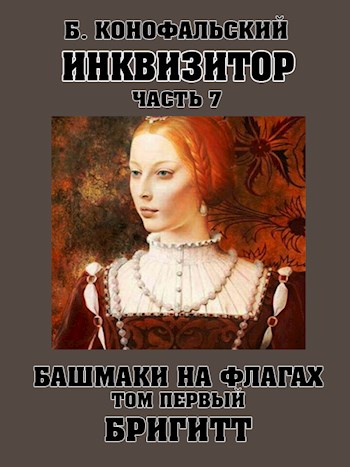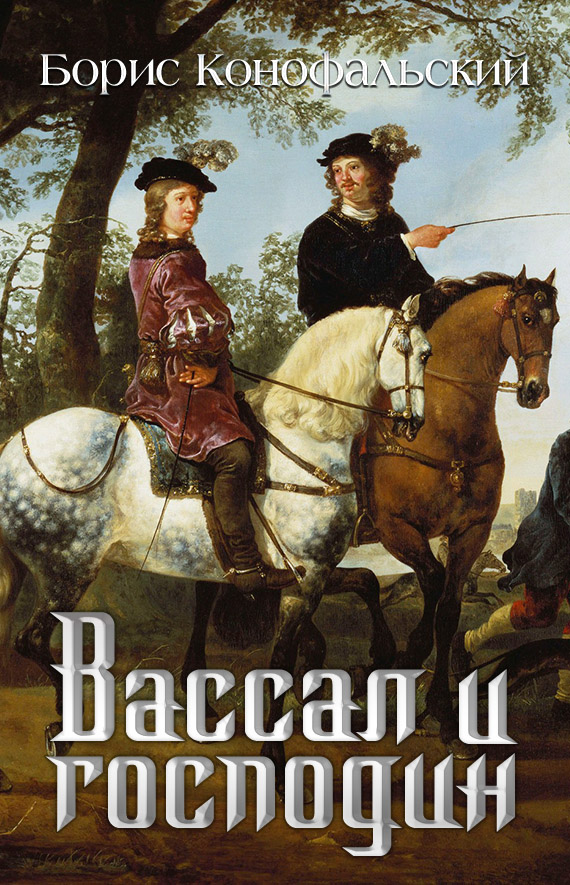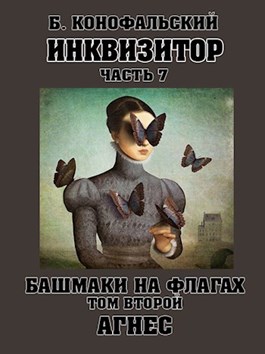знать, как быстро зелье начнет действовать.
– Не хочу стоя, не хочу у стола… – говорит она.
– Так пойдемте на постель, – сразу соглашается Петер Майер, хватает ее и тащит к кровати. – Мне и в кровати вас брать очень нравится.
Он дотаскивает ее до кровати, сажает на край, сам начинает быстро раздеваться. От него пахнет потом, от его одежды, одежды уличного торговца, – сыростью. Но тело у него очень крепкое, сбитое – может, на это польстилась глупая Агнес. Как он остался гол, так кидается на нее, но она снова вырывается.
– Да погоди же ты, – девушка злится, – давай хоть поговорим о чем-нибудь.
– Да о чем же нам говорить сейчас, потом поговорим, я уже готов, вон, поглядите. – Он и вправду готов, это видно издали. Пирожник сует ей руку меж ног. – Да и вы тоже готовы, чего болтать-то зря. Уж прошу вас, моя госпожа, допустите уже меня до себя, мочи нет теперь, со вчерашнего дня терплю.
«Дурак». Вот возьми бы он да повали ее в перины, не спрашивая разрешения, даже пусть и не хочется ей, ей бы, может, и не так скучно было бы.
– Ладно уж, – говорит Агнес, – бери, раз невтерпеж тебе.
А сама думает о том, когда же зелье начнет действовать.
* * *
Вечером Агнес открыла тетрадь. Теперь она когда готовила всякие снадобья, то делала записи, чтобы не забывать и не путаться. Зелье, что вводило людей в беспамятство, на первый взгляд удалось на славу: темное, тягучее, со смолянистым запахом. А дурак-пирожник даже не уснул от него, так и брал ее, пока на улице темнеть не начало. Лишь потом сказал, что в голове у него туман, словно он во сне. Хотел тут у нее лечь спать, но Агнес его прогнала: нечего, не ночлежка для бродяг тут. Он сказал: «Спасибо и на том, госпожа», оделся и ушел. А она, приняв свой естественный вид, взяла тетрадь, снова улеглась в кровать и стала думать, почему же это варнак не упал без сил, не потерял чувств и не забыл все, что было с ним сегодня. Но утомил ее пирожник страстью своею, так утомил, что глаза у нее закрывались над тетрадью. Ничего не надумала она, бросила тетрадь на пол рядом с кроватью и позвала Уту. Когда та пришла, повелела:
– Вазу ночную подай.
Было ей лень идти до нужника. А как управилась, сказала служанке:
– Лампы погаси, только ночник оставь.
И тут же заснула, даже не подумав о том, что платья у нее к завтрашнему обеду нет.
* * *
Карета осталась во дворе, Игнатий на козлах, Ута – Агнес взяла ее с собой на всякий случай – сидела в карете. Девушка, как вышла, пошла по ступеням вверх, там слуги приняли ее шубку. Так и пришлось ей идти в платье старом, платье позорном. И у нижних юбок ее подолы были не белоснежны. И башмачки ее не безупречны. Но разве в том ее вина, а не вина ее дяди. Но кое в чем Агнес не удержалась – к белилам и румянам добавила себе немного объема губ, потолще их сделала. Ну и волос немного прибавила, самую малость, чтобы прическа попышнее была. Лоб чуть покрасивее. Скулы чуть повыше. Грудь – ну, тут она не удержалась, стала даже сомневаться, уж не переборщила ли, аж немного дышать было тяжко. И роста прибавила. Вон Брунхильда какая каланча церковная, оттого, видно, к ней мужчины так и льнут. Платье стало мало. Ну да ладно, ничего. Агнес оправила одежду свою пред огромным зеркалом в прихожей. Ей тоже такое зеркало нужно. Интересно, сколько стоит? А кругом лакеи, лакеи – все одеты не хуже господ. Мажордома и вовсе с вельможей можно спутать, он ей низко кланялся.
– Как прикажете доложить?
– Агнес Фолькоф, – отвечает она, а сама волнуется.
Они идут по лестнице вверх. Девушка волнуется еще больше. Так они доходят до больших дверей. А тут он, подлец, вдруг делает ей рукой знак остановиться. Прямо перед дверями.
Что? Что случилось? Может, с ней что-то не так? Может, платье ее недостаточно хорошо для этого обеда? Так отчего же он ее сюда вел, а сразу не сказал? Сердце упало у нее. Так она перепугалась, что руки вспотели. Остановилась и в необыкновенном волнении стала ждать, что дальше будет.
А дальше лакей перед мажордомом распахнул двери, тот вошел в ярко освещенную залу и крикнул звонко, так, чтобы все слышали:
– Девица Агнес Фолькоф.
Кажется, от волнения Агнес даже пошатнулась, замерла, а мажордом, повернувшись, шепчет ей любезно:
– Госпожа, прошу вас, входите.
Она еле смогла сделать шаг в залу. А там… Окна огромные, солнце в них светит, зеркала, зеркала повсюду. Света столько, что зажмуриться впору. И люди – разные, вельможи, городская знать, дамы и господа, священники, и молодые, и старики, что у стен сидят. И все на нее смотрят. Девушка встала у двери, не зная, что делать дальше, слава богу, к ней навстречу уже шли плотный седеющий Кальяри, сын одного из основателей дома, и сын другого основателя банкирского дома, великолепный Энрике Ренальди. Агнес обоих знала, не раз и с тем и с другим говорила об аренде и даже о продаже дома, в котором жила. Они ей улыбались и, когда подошли, низко кланялись, и она присела в таком же низком реверансе перед ними.
– Госпожа Агнес, – говорил красавец Ренальди, беря ее руку, – дозвольте, я познакомлю вас с гостями.
И он повел ее по этой великолепной светлой зале.
«Ах, какие же здесь светлые и блестящие паркеты, – думала девушка, глядя на пол. – Они здесь не хуже, чем зеркала».
Улыбающийся Кальяри шел рядом, он остановился около благородной пары и, указывая на этих двух великолепно одетых людей, заговорил:
– Фердинанд Иоганн Лейвених, член ландтага Фринланда и личный советник его высочества курфюрста Ланна, и его жена Клотильда.
Все друг другу кланялись.
– Премного наслышан о славных победах вашего дядюшки, – произнес господин Лейвених.
– Все о том только и говорят, – добавила его жена. – Очень желаем видеть его у себя, как он будет в Ланне.
– Я передам дяде ваше приглашение, – едва слышно от волнения отвечала девушка.
– И вас, и вас желаем видеть, дорогая моя, – продолжал господин Лейвених.
– Да, уж не пренебрегайте нашим приглашением, – молитвенно сложив руки, попросила Клотильда Лейвених. – Вот хоть в следующую среду приезжайте, госпожа Агнес.
– Обязательно буду, – отвечала Агнес с вымученной улыбкой. Но она тут же подумала о своем платье, не может же она пойти в гости опять в этом