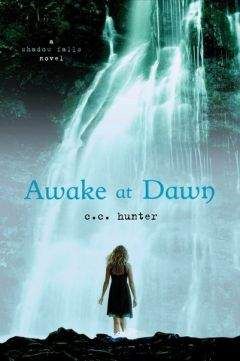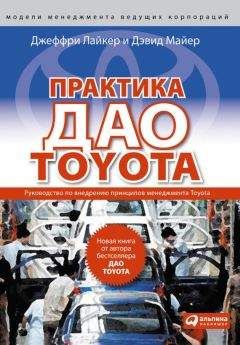Только вдруг почуяла, что веревка затянула мою щиколотку, не успела опомниться – а маленький мальчик уже прыгнул на конька, крикнул звонко: «Йерра!» – и выволок меня из самой кучи, потащил по снегу трусцой. Увидав такое, остальные закричали и кинулись следом. Рот, и глаза, и уши мне забило снегом, я катилась, как бревно, только рычала от бессилия. Наконец услыхала над собой скрипучий Камкин хохот – она потешалась до изнеможения, чуть не падая с коня, – а лошадь остановилась, и мальчишеский голос прозвенел:
– Видишь, это я сделал! Я доказал, что уже могу быть воином! Мало что духи еще не позвали – я сам все могу!
Тут я перевернулась на спину, схватила веревку и со всей силы дернула. Она оказалась привязана мальчишке за пояс, и он, не удержавшись, кувыркнулся в снег. Приступ хохота скрутил Камку, и мальчишки смеялись, одна я молчала, вытирала лицо и сплевывала снег. Кто-то, подойдя сзади, сунул мне в руки мою шапку и отскочил. Я отряхнула ее и надела на мокрые косы, поднялась и, негодуя, посмотрела на Камку.
– Что, дева, хороши воины? – сквозь смех говорила она, и голос ее звучал молодо, звонко. Но тут же она опомнилась и опять захрипела каргой – и не поймешь, то ли старуха, то ли старик.
– Слов нет, как хороши, – согласилась я. – Еще никто меня не борол, хоть никогда с такой толпой одна не сражалась.
– Тебе урок: не жалей противника, кем бы он ни был.
– Или ты хотела, чтоб я их клевцом сейчас посекла? Кого бы ты увела тогда на посвящение?
– Кого бы выбрали духи. Те, чего не случилось, тому не бывать. Ко мне ехала, царевна? Или по другому делу?
– К тебе.
– Поехали тогда вровень. А вы, – крикнула она мальчишкам, уже затеявшим между собой свару, – цепляйте лыжи и вперед, к царскому стану. Чтобы даже тени вашей я здесь не видала!
Мальчишки прыснули, хохоча и погоняя друг друга палками, точно коней. Я поймала Учкту и нагнала Камку.
– Что за знак был тебе, что так рано за ними спустилась? И отчего таких малых берешь, как этот всадник? Будет ли от него толк?
– Духи не ошибаются, Ал-Аштара. О войне они говорили мне давно. А на рост воинов не смотри, хороший охотник знает цену коротколапой собаке: она нырнет в нору, а большая только зверя спугнет.
– Те, не поспоришь с тобой! Но людей ты растревожила как улей. Поутру мать одного из твоих воинов прибегала, поставила дом на крышу. Выла, что отбираешь детей для войны, отца обвинила, будто он тебе так велел.
– Нашла ли, что ответить бездетной кукушке?
– Нашла. Но к чему нам сейчас недовольство? Воин, злой на своего вождя, крепко ли держит в руках чекан?
– Люди гудят, потому что степские еще не на пороге. Но война никогда не приходит как гость, нельзя подготовить дом к ее появлению. Она – как гроза, если уже гремит, о царях забывают. В битве нет ни царя, ни царских детей, Ал-Аштара, ни верных царевых воинов. Каждый будет защищать себя и то, что ему дорого. Поверь старой Камке, я воспитала много воинов, а с этим, последним выводком сама выступлю в бой.
Что было мне сказать ей, старой, как горы, но юной умом, как утро? Своими незатуманенными глазами она видела далеко. Так и запомнилась мне она – мудрая старуха на низкорослом коньке, чудный хранитель нашего люда, заступник перед духами и самим Бело-Синим, и тот день, как ехали мы с ней по залитому солнцем урочищу к стану, до сих пор ярко стоит перед глазами. Опорой и успокоением сердцу была старая Камка для меня, и один Бело-Синий ведает, как мне ее не хватает.
Но вот накатила весна, и люди не знали, каким путем идти дальше. Надо было встречать праздник и начать год заново: собрать скот и семьи, отходить на летние пастбища, пока трава сочная, пока прохладные ветры спускаются с гор. Но запах войны стоял между домами, ею пахли сухие лепешки, которые пекли на постных кизяковых очагах, ею пахло молоко наших коз и овец, ею пахли руки, что молоко доили. Все ждали, что скажет отец.
И он вышел в полнолуние на теплый пригорок за домом, долго стоял и смотрел на восток, на золотой лик луны, а когда вернулся, я уже знала: объявит праздник в начале месяца.
– Не Атсур выбирает пути кочевьям, и не мы, но один Бело-Синий, – сказал он. – Не будем же звать войну страхом. Станем жить простой жизнью, не запирая молодых коней в тесные стойла.
И все стали готовиться к празднику.
Земля уже освободилась от снега, прогревалась, уже первой сверкающей зеленью одевались деревья, и пригорки выпустили травы. В нижних станах и теплых долинах принялись сеять хлеб. Дети впервые пошли в горы без взрослых – алчные духи скрылись, бояться больше было не надо. Дети собирали бурые тряпочки бадана. Пережившие зиму под снегом листья варят, и вся память минувшего лета, все жаркие его, душные вечера в прогретых каменистых распадках, крики закатных птиц, вздохи маралух на склоне с разнотравьем, звонкий вкус хрусткого ревеня с заповедного кряжа, – все в том первом весеннем настое. Особенно хорош он в голодные дни голой весны. Аж голова кружится, когда пьешь этот терпкий, цвета густой крови отвар. Я всегда любила его, но в ту весну особенно запомнился мне этот вкус – чуяла, что сокрытое в листьях лето станет для меня последним летом спокойной жизни.
Духи показали место для праздника в трех днях пути от царского стана. Род, на чьей земле оказалось место, обещал все приготовить сам, и наша семья – я, отец, братья с детьми и женами, а также другие люди, – все потянулись в долину к самому празднику – в безлунные ночи, хотя обычно не начинают дороги в это время, но праздник – особое дело.
О войне мы не забывали. Во всех станах отец повелел остаться линии воинов, вождю их и гонцу с тремя сменными лошадьми. В дальних станах, что ближе других к степи были, воинов оставили вдвое больше.
Но ехали мы в праздничных думах, как и обычно, как и каждый год. Мысли мои текли тихо и были о хлопотах, все ли успели, сделали, приготовили и взяли. Еще думала я, как же будут танцевать нынче девы, сколь неистов должен быть их танец и сколь сильная жертва, чтобы пробудить в людях боевой дух под тенью близкой войны.
Но мне не суждено было это увидеть. В ночь перед последним переходом отец услышал голос предчувствия и позвал нас с Санталаем. Весь день он был задумчив, не поднимая глаз от гривы коня. Смутная тревога заволокла его сердце. Но когда остановились на ночлег, тревога вдруг стала знанием.
– Смятение, дети, слышу я в дальних станах, – сказал он нам. – Атсур помнит наши обычаи, он понял, когда мы соберемся на праздник. Хочет застать врасплох. В темную ночь появятся его люди на восточных границах, в тайге.