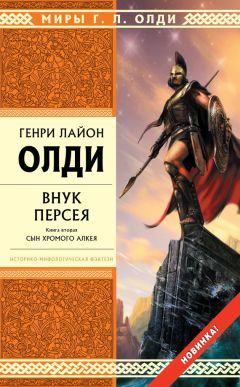Генри Лайон Олди
Внук Персея. Сын хромого Алкея
А если бы властвовали над нами, свергнув богов, скажем, Тифоны или Гиганты, какие бы им были приятны жертвы, каких бы они требовали обрядов?
Плутарх Херонейский, «О суеверии»
Так как поэт есть подражатель, так же как иной создающий образы художник, то ему всегда приходится воспроизводить предметы одним из трех способов: такими, каковыми они были или есть; или такими, как их представляют и какими они кажутся; или такими, каковы они должны быть.
Аристотель, «Поэтика»
Меркурий:
Что морщитесь, услышав про трагедию?
Я бог: не затруднюсь и превращением.
Хотите, перестрою всю трагедию
В комедию, стихи ж оставлю прежние?
Хотите так? А впрочем, глупо спрашивать!
Как будто сам не знаю! Я ведь бог на то!
Понятно, что на этот счет у вас в уме!
Вам смешанную дай трагикомедию…
Т. М. Плавт «Амфитрион»
Меч боролся до последнего.
Он плашмя бил мечом о камень. Летели искры. Меч ломаться не желал. Тяжелый, широкий, дитя микенских кузниц, клинок лишь гневно звенел. Тогда он стал бить лезвием. Появились первые выщербины. Отлетев, кусочек бронзы оцарапал ему щеку под глазом. Теперь меч визжал, как визжит от боли пес, избиваемый хозяином. И наконец, не выдержав позора, сломался на три пальца выше рукояти.
Взяв обломки, он встал над обрывом. Внизу дышало море. Плавясь в небесном горне, закат стекал в воду медью и бронзой, и червонным золотом. Золото пугало человека на утесе. Он сомневался, что когда-нибудь без содрогания сумеет прикоснуться к полоске драгоценного металла. Без того, чтобы хищный блеск впился в зрачки, принуждая к повиновению, возрождая стыд, о котором следовало забыть навсегда. «Не терзайся, — сказал ему днем Кефал, крепко взяв за плечи. — Выбрось из головы. Иначе станешь таким, как я. Ты сильный, ты сможешь. Это мне уже поздно. Я что? Поставлю сына на ноги, дождусь внуков, взойду на подходящую скалу — и прыгну в беспамятство. Глоток из Леты, и не помнишь ни о чем. Будь спокоен, я не оскверню остров. Сыну здесь жить. Отплыву на какую-нибудь Левкаду …»
«Ты успокаиваешь меня?» — спросил он.
«Разучился, — вздохнул Кефал. — Извини…»
Он с силой сжал пальцы — и вскрикнул от боли. На последнем издыхании меч разрезал ему ладонь. Широко размахнувшись, он швырнул окровавленные обломки в море. Еле слышный всплеск, и оружие пошло на дно. Ему показалось, что в закате тоже прибавилось крови. Припав губами к сосцам моря, солнечный колесничий Гелиос жадно пил воду, соленую больше обычного — и багрянец над волнами наливался темной густотой.
Я все-таки проклятый, подумал он. Мои пиры оборачиваются войнами. Честь — изгнанием. Клятвы — бесплодием. Мою победу украли, превратили в милостыню. Амфитрион, Убийца Женщин. Вот кто вернется в Фивы. Хоть тысячу мечей изломай, от себя не убежишь. Проклятый, чего уж там…
Над человеком, над морем, над островом высился могучий Айнос. Скалы, тропы, черные ельники. Крутизна склонов. Тени ущелий. Снега вершины. В снегах, редко посещаемый людьми, дремал алтарь Зевса. Айнос ниже Олимпа, вспомнил он. Небо выше Олимпа.
Судьба над всеми нами.
Желая бури избежать, кормчий молится и призывает богов-спасителей, но, молясь, он тем не менее вытаскивает кормовое весло, пригибает к палубе мачту и, «свернув широкий парус, прочь бежит стихии грозной»…
Плутарх Херонейский, «О суеверии»
— Проклятые!
— Нет.
— Говорю тебе, они прокляты!
— Не более, чем все Пелопиды.
— Месяц назад я бы с тобой согласился. Но не теперь, после убийства.
— Наш отец тоже убивал родичей. Его очистили, и ничего не случилось. Это не проклятие, брат. Это будни семей, подобных нашей.
— Это проклятие, брат. От него не очистишь.
— Что ты хочешь сказать?
— Есть люди, от которых лучше держаться подальше.
— Ты предлагаешь мне выгнать гостей, попросивших убежища?
Алкей Персеид, басилей Тиринфа, сдвинул брови. «Да, предлагаю,» — ясно читалось в его молчании. Эхо непроизнесенных слов повисло в зале. Мигнула лампада, как от порыва ветра. Качнулись на стенах тени, словно в попытке обрести собственную жизнь. Поколебались — и замерли, осознав тщету усилий.
— Я не нарушу закон гостеприимства.
В подтверждение сказанного Электрион Персеид плеснул вином в сторону порога — Зевсу-Фиксию[2] — и отхлебнул из кубка. Год назад, при полном одобрении знати, жрецы Микен, где правил Электрион, возложили на его голову венец ванакта. С тех пор средний из трех сыновей Персея Горгоноубийцы взял за правило при любом удобном случае намекать на волю своего божественного деда. То, что владыка Олимпа приходится дедом далеко не ему одному, Электриона волновало мало. У Громовержца уйма сыновей, еще больше — внуков. Герои, чудовища, сосуды благородства и подлости… Но ванакт среди них один! Лишь он, Электрион Микенский, по праву осенен Зевесовой эгидой.
— Тебе не придется его нарушать. На твоих гостях — кровь брата.
— Что с того?
— Ты вправе отказать им. Никто тебя не осудит.
— И это говоришь ты, Алкей?! — возмущение Сфенела, младшего из Персеидов, дышало искренностью. — Сыновья Пелопса — родные братья твоей жены. И моей, кстати, тоже, если ты вдруг забыл. Не настолько близкое родство, чтоб оно помешало нам очистить просящих. Но и не настолько дальнее, чтобы мы отнеслись к ним, как к чужим.
— Да хранят нас Мойры от таких родственничков…
— Опасаешься?
— Да.
— Правильно делаешь, — Сфенел выдержал жесткий, испытующий взгляд старшего брата. Будто копье щитом встретил. — Ты прибереги свою опаску для лучшего случая. Эти двое — не угроза.
Электрион кивнул с одобрением. Вклиниваться не стал, давая возможность Сфенелу развить мысль. Язык у парня подвешен хорошо — не отнимешь. Пусть старается.
— Не скажи, брат.
— А я все же скажу. Зря трясешься, Алкей. Проклятие Пелопидов, говоришь? Проклятие на них, мы ни при чем. Не очистить от него, говоришь? И не надо. От крови — очистим, а проклятие — чужая забота. Нам-то чего беспокоиться?
— Бедняга Хрисипп тоже вряд ли беспокоился — по малолетству. Пока эти двое его в Аид не отправили.