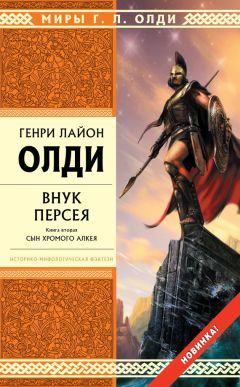Алкей вернулся к троносу; крякнув от натуги, сел. Электрион тоже опустился в кресло — раздумал стоять столбом перед братом, словно подданный.
— Скорее уж Пелопс разгневается, если мы откажем ему в выдаче сыновей. Или притворится, что разгневался. Отказ — прекрасный повод для войны. Опасаешься проявить слабость, брат? — Алкей улыбнулся: он попал в больное место Электриона. — Но разве это слабость — выполнить законное требование отца? Вернуть ему сыновей для суда? Как по мне, разумное решение.
— Ты считаешь разумным уступить? — вскипел Сфенел, чувствуя себя забытым. Поздний ребенок, моложе братьев на полтора десятка лет, он ревниво относился к любым попыткам ущемить его достоинство. Ущемления чаще всего были плодом воображения Сфенела, но это не останавливало младшего Персеида. — С готовностью исполнить прихоть Пелопса? Дать ему понять, что здесь он не встретит сопротивления?!
— Прихоть? На месте Пелопса я бы тоже потребовал выдачи убийц. Мне рассказали, что произошло в Писе. Атрей и Фиест, — впервые хромой сын Персея назвал гостей, нуждавшихся в очищении, по имени, — хладнокровные убийцы. Они явились к жертве на рассвете…
Алкей продолжал говорить, и казалось: стены зала плывут утренним туманом, открывая взглядам буковую рощу, где меж деревьев ступают двое юношей. Подолы их хитонов были мокрыми от росы — высокая трава местами доходила молодым людям до пояса. Туман скрадывал звуки, но когда юноши остановились, первое же слово, произнесенное вслух, прозвучало с отчетливостью медного кимвала.
«Ягненочек,» — вот это слово.
— Ягненочек, — сказал Атрей.
Фиест кивнул.
Малыш, спящий у ног братьев-Пелопидов, был невинней капли воды на листе. Вольно разбросав руки, он обратил лицо к просветлевшим небесам, приветствуя восход улыбкой. Что снилось юному Хрисиппу? Морфей, бог грез, хранит свои тайны от чужаков. Лишь птицы в дубраве заливались на все лады, приоткрывая миру краешек счастливых видений.
— Доброй ночи, братец, — сказал Атрей.
— Вечных сумерек, — добавил Фиест.
На рассвете эти слова звучали приговором. Может ли брат желать зла брату? Родная кровь — самой себе? «Может,» — вздохнул Уран-Небо, вспомнив серп, лишивший его мужества. «Может,» — содрогнулась Гея-Земля, вспомнив гигантов, ввергнутых в ее чрево после рождения. «Еще как может…» — шепнуло Время из черной бездны Тартара[5]. И эхом откликнулись, соглашаясь, мириады теней в Аиде. Хлебнув жертвенной крови, мертвецы вспоминали не грудь матери, ладонь отца или губы любимой — нож в братской руке вспоминали они.
— Ягненочек, — повторил Атрей.
Фиест оскалился волком.
Боги благословили Пелопса Проклятого обильным потомством. Гипподамия, супруга владыки, рожала без устали. Три дочери разлетелись по чужим гнездам, обеспечив отцу нужные союзы. Старшие сыновья искали счастья на стороне, приращивая исконные земли новыми городами. Младшие, Атрей с Фиестом, безотлучно находились в Писе, рядом с дряхлеющим родителем. Тронос, нагретый седалищем Пелопса, казалось, ждал одного из них со дня на день. В детстве эти двое дрались без устали, изобретая все более ужасные кары сопернику. Но стоило вмешаться кому-то из родичей — драчуны мигом объединялись против дерзкого, становясь плечом к плечу. Готовы сожрать друг дружку без соли, они ясно понимали, что лишь в союзе достигнут цели, а там — гори огнем, былой союз!
И вдруг — крепка, как бронза, старческая любовь! Ядовитей гадюки страсть лысых, чувства седых! Увидел Пелопс в роще нимфу Аксиоху, и утратил разум. Ответила нимфа взаимностью, вернув старику молодость. Родила ему сына — Хрисиппа, Золотого Жеребенка[6]. Все забыл Пелопс — стыд, честь, супругу, наследников. Хлебнув вина, кричал, что оставит венец последышу его чресел. А прочие — ищите, шлемоблещущие, других владений!
Кто герой, тот найдет.
Ничего не зная о заботах, родившихся вместе с ним, малыш Хрисипп рос здоровым и счастливым. Нимфа редко гостила во дворце — тень деревьев она предпочитала крышам домов. Дитя резвилось подле матери, играя на руках сатиров, засыпая на коленях дриад. Сейчас лишь безумец сумел бы представить Хрисиппа во дворце, с венцом на голове, отдающим приказы челяди. Но годы летят вихрем, и воображение безумца завтра способно обернуться правдой жизни.
— Давай, — сказал Атрей.
Фиест достал нож.
Нет, не смолкли птицы на ветвях. И лик Гелиоса не омрачился, надвинув тучу-шапку. Все осталось по-прежнему. Плясала в горах нимфа Аксиоха, вела хоровод с подругами. Убрел искать утех молоденький сатир, которому поручили следить за ребенком. И Зевс-Защитник не воздел громовой перун, желая воздать убийцам полной мерой.
— Чего ждешь? — спросил Атрей.
— Тебя, — ответил Фиест.
Хороший нож был у Фиеста. Длинный, тонкий, хищный. Этот нож, похожий на иглу, сын Пелопса купил на рынке у черномазого моряка, а тот утверждал, что привез клинок из далекого Баб-Или[7]. Врал, наверное. Атрей с полгода завидовал брату, пока не обзавелся заморской редкостью — серпиком из Черной Земли, похожим на клюв филина.
— Вместе, — сказал Фиест, присев на корточки.
— Боишься?
— Опасаюсь. Я его убью, а ты вывернешься чистеньким.
— Кто мне поверит?
— Поверят. Ты дашь клятву в храме. Ведь дашь, правда?
— Я и так дам клятву. Думаешь, побоюсь?
— Так тебя боги накажут.
— Ладно. Будь по-твоему.
Атрей встал на колени.
— Сердце.
— Горло.
— Договорились.
— Тело бросим в колодец?
— Да.
Игла вонзилась в грудь малыша, легко скользнув меж ребрами. Клюв разорвал жертве глотку. Это было в характере братьев. Фиест полагал себя человеком тонким, можно сказать, изысканным, и лишней крови не любил. Будь его воля, он сражал бы врагов цветком лилии. Атрей же считал, что настоящий мужчина ест мясо сырым, а вопль насилуемой девственницы слаще вздохов любовницы. Впрочем, Золотому Жеребенку не было дела до разницы во взглядах Пелопидов. Он ушел во тьму Аида счастливым — из сна в сон.
Далеко в горах закричала нимфа Аксиоха.
Матери нутром чуют.
— Так прямо и зарезали? — Сфенел скорчил недоверчивую гримасу. Игра теней превратила лицо младшего Персеида в глиняную маску. Такую мог бы слепить ваятель, пьяный до изумления. — А на базаре врали, что ублюдка задушили. Войлоком.
— С каких пор басилей Тиринфа доверяет сплетням? — Электрион прищурился, словно сидел не в сумрачном мегароне, а на холме в знойный полдень. Слова брата про ублюдка пришлись ему не по сердцу. Микенский ванакт и сам имел внебрачного сына — правда, не от нимфы, а от фригийской рабыни — которого признал и держал во дворце, как законного. — Что стряслось в Писе, ведомо лишь богам. Хочешь, отправлю посольство к Дельфы? Закажем оракул…