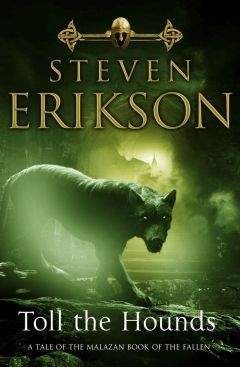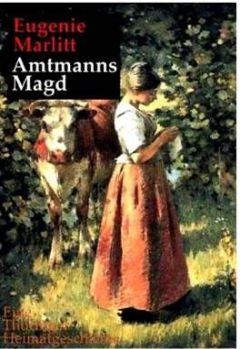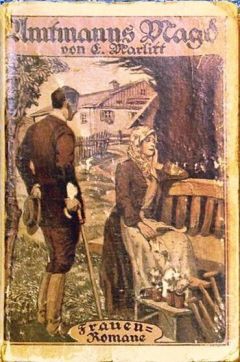— Если не хочешь быть изрубленным в кусочки… да, несколько дней.
— Я не был уверен, что он… гм… согласится. До самого момента, когда… — Котиллион подмигнул, поглядел в сторону улицы, как бы пытаясь найти взором одинокую, потерянно скитающуюся с мечом в руке фигуру. Но нет, он назад не вернется. — Знаешь, я предлагал всё объяснить. Это облегчило бы его совесть. Но ему было неинтересно.
— Послушай треклятые колокола, — сказал Темный Трон. — У меня уже голова разболелась. Давай уходить. Здесь мы дело сделали.
Он был прав, так что они ушли.
* * *
В двух улицах от дома Беллама Нома схватили сзади и прижали к стенке. Движения вызвали боль в сломанной руке; он задохнулся, чуть не потеряв сознание, и уставился в лицо схватившего его человека. — Дядя. — Затем он заметил за спиной Раллика другое знакомое лицо. — И … дядя.
Нахмурившись, Раллик отступил: — Ты плохо выглядишь, Беллам.
А Торвальд сказал: — Весь чертов клан Номов охотится за тобой.
— Ох.
— Нельзя терять наследника Номов на целых два дня, — заявил Торвальд. — У тебя есть обязанности, Беллам. Погляди на нас. Даже мы не были такими беспечными в юные годы, хотя ничего не наследуем. Так что пойдешь домой с эскортом. Видишь, как ты нам досадил?
И они пошли домой.
— Надеюсь, — сказал Раллик, — то, во что ты ввязался, было ради благого дела.
— А, я тоже надеюсь.
— Ну, хоть что-то.
Пропихнув юношу в ворота и убедившись, что он идет в правильном направлении, Торвальд и Раллик удалились.
— Хорошо прозвучало, — сказал Раллик. — Вся эта чепуха насчет нас молодых.
— Трудно было сохранять серьезное лицо.
— Ну, мы были не такими уж плохими. Пока ты не украл мою девушку.
— Я знал, что ты не забудешь!
— Я намекаю, что пора навестить милую Тизерру. Обещаю сделать все, что смогу, чтобы украсть ее назад.
— Но на завтрак не надейся.
— Почему?
— Тизерра никому не прислуживает, кузен.
— Ого. Ну, тогда можешь оставить ее себе.
Торвальд усмехнулся себе под нос. Раллика всегда так легко провести. Так легко заставить думать именно то, что нужно ему, Торвальду.
Раллик шел рядом, довольный. Уголком глаза он заметил плохо скрытую плутовскую ухмылку на роже Тора. Выдавать себя за дурачка Раллику всегда нравилось.
Как приятно, что некоторое вещи не меняются.
* * *
Ступив на палубу, Сестра Злоба увидела Резака на корме. Он оперся на поручень и смотрел на спокойную воду озера. Не удивившись, она присоединилась к нему.
— Я возвращаюсь на Семиградье, — сказала она.
Он кивнул: — Достаточно близко.
— Ах, ну да, я рада твоей компании, Резак.
Он глянул на нее. — Получили то, чего желали?
— Конечно нет, и… почти.
— Так вы не огорчены?
— Разве что тем, что не удалось впиться зубами в нежное сестринское горло. Но это может подождать.
Если он был удивлен ее словами, то ничем этого не выказал. — Я вообще-то думал, что, проплыв так далеко, вы захотите закончить задуманное.
— О, есть замыслы и замыслы, мой юный друг. Так или иначе, мне лучше отбыть незамедлительно, и причины я разъяснять не намерена. Ты успел попрощаться?
Он дернул плечом: — Похоже, я сказал всему «прощай» годы назад.
— Отлично. Будем отчаливать?
Через некоторое время корабль отошел от берега, направляясь на запад. Они встали на носу, наблюдая за похоронной процессией, уже начавшей расходиться от нового кургана, поднявшегося над всеми окрестными холмами. Могильник еще окружали толпы и толпы горожан. Молчаливая торжественная сцена — только колокола гремят в отдалении — казалась нереальной, нарисованной на холсте тумана. Они видели вола и телегу.
Злоба вздохнула: — Знаешь, моя сестрица однажды любила его.
— Аномандера Рейка? Нет, не знал.
— Его смерть означает начало.
— Начало?
— Начало конца, Резак.
У него не нашлось ответа. Протекали мгновения… — Вы сказали, она любила его. И что произошло?
— Он завладел Драгнипуром. По крайней мере, я думаю, причина была в этом. Она получила подходящее имя, моя сестрица.
«Зависть».
Резак метнул взгляд, подумав об имени прекрасной женщины рядом, но мудро промолчал, не издав ни звука.
* * *
Колокол, которого нет, наконец-то прекратил маниакальный трезвон, и Сциллара решилась вылезти на крышу, обозреть город. Она смогла увидеть озеро и одинокий корабль, распускающий паруса на утреннем бризе. Она узнала эти паруса и долго не сводила с них глаз.
Кто на борту? Ну, наверняка Злоба. И, если у него осталась хоть капля здравого смысла, Баратол. С улыбающимся Чауром, ребенком — великаном, чья младенческая любовь никогда не предаст — по крайней мере до того дня (будем надеяться, через десятки лет), когда кузнец станет согбенным стариком и заснет в последний раз. Она почти увидела его: глубокие морщины на лице, тусклые глаза… он забывает потери своей жизни, одну за другой, он смотрит только вглубь себя.
Чаур не поймет. Чувства пронесутся по его душе, словно кабаны по лесной чаще. Страшно будет видеть, как он сворачивается клубком, стонет от боли, причины которой не понимает, от потери, глубины которой ему никогда не измерить.
Кто позаботится о нем?
А что насчет милой Сциллары? Почему она не с ними? Хотелось бы ей найти ответ. Но одну несомненную истину о себе она познала. Она предназначена — ныне она крепко в это верит — утешать пролетающие мимо души. Стать утешительным мостом, облегчать тяготы одиноких скитаний.
Кажется, она обречена раскрывать объятия неподходящим любовникам, любить всей силой, но не получать того же в ответ. Итог жалкой и неуклюжей жизни определен уже сейчас.
Сможет ли она так жить, не погружаясь в бездну жалости к себе? Время покажет.
Сциллара набила трубку, выбила искру. Глубоко затянулась.
Некий шорох сзади заставил ее обернуться…
И Баратол подошел, погладил ее по голове, склонился и поцеловал в лоб. Долгий, смачный, однозначный поцелуй. Когда он наконец оторвался, она чуть не задохнулась. Выпучила глаза, глядя на него.
Он сказал:
— Я кузнец. Если придется выковать цепи, чтобы удержать тебя, я готов.
Она моргнула и гортанно засмеялась:
— Осторожнее, Баратол. Цепи свяжут и тебя.
Лицо его стало мрачным.
— Ты сможешь так жить?
— Не давай мне выбора.
* * *
Летим, друзья мои, на крыльях любви! Туда, мимо колокольни, на которой мужчина и женщина нашли друг друга, и туда, к тугим парусам, под которыми другой мужчина устремил взор на запад, грезя о сладком лунном свете, о саде, о женщине, ставшей второй половинкой его души.