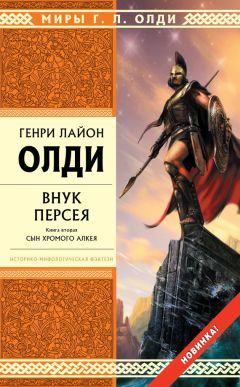Кормчий насупился:
— В Мидее.
— Сфенел не отобрал подарок?
— Нет. Пусть сидят, сказал. Они там друг дружку быстрей сожрут.
— Жрут?
— Помаленьку. Болтают, Атреева жена к Фиесту бегает. Быть беде! Дурное семя, вредное. Не я, оракул Додонский вещал: быть беде…
— Купленный оракул?
— Настоящий, — обиделся дядька Локр. — Все знают: в Додоне — по-честному[70].
— А в Тиринфе по-прежнему Алкей?
— Какой там Алкей! Он, когда про сына узнал, умом тронулся. Тут любой тронется! Считай, в Тиринфе — опять Сфенел. Ездит туда-сюда, два троноса одним седалищем греет. Толстый стал на радостях. Жрет, как не в себя…
— А что Алкей? — упорствовал Птерелай.
— Во дворе сидит, на солнце греется. Старик стариком. Молчит. Про еду забывает, пьет через силу. Жена его, будто сопляка, кормит…
— Жаль. Я думал, он крепче. Ты сына Алкеева видел?
— В Коринфе.
— Разговаривали?
— Было дело, — замялся кормчий.
Дело шло к повороту, одна мысль о котором бросала дядьку Локра в дрожь.
— Ты все ему передал? Ничего не напутал?
— Все передал. От твоего имени. И что ты берешься очистить изгнанника перед людьми и богами. И что готов дать ему пристанище на любой срок. И про дочку в жены…
Кормчий снова глянул на девку: не хватается ли за ножик? Нет, слушает. Даже мордой оттаяла. Небось, замуж хочется — аж горит! Он вспомнил Амфитриона — харчевня, чад, вонь прогорклого масла, и лицо напротив, тяжелое, каменное лицо человека, знающего, что судьба беспощадна. Никогда не встречал дядька Локр великого Персея, и хвала богам, что не встречал, а тут почудилось: встретил.
— Что сказал тебе сын Алкея?
— Поблагодарил.
— Что еще?
— Сказал, что убьет тебя. Непременно.
Все. Слово прозвучало. Дядька Локр зажмурился.
— Убьет? — спросила тьма. — В благодарность за добро?
— Клятву дал. Дяде-ванакту. Иначе, говорит, не будет мне покоя. И семьи не будет. И детей. Клятва, мол, такая.
— Когда ж это он клялся? Над могилой?
— Нет, живому. Сперва поклялся, а потом убил.
— Он передумает, — сказала тьма другим голосом: женским. — Отец, он…
— Эх, ты, — укорил дочь Птерелай. — Ты что, не слышала, как он клялся?
Комето долго молчала.
— Слышала, — наконец ответила она. — Ну и что?
Если же славу ты устраняешь из жизни, подобно тому, как светильники убирают с пирушки, чтобы во мраке предаваться всяческим удовольствиям, тогда правилен твой совет «жить неприметно».
Плутарх Херонейский, «Хорошо ли изречение: «Живи неприметно»?»
— Проклятый!
— Не говори глупостей, брат. Или хотя бы не повторяй их за другими.
— А ты разуй уши, брат. Твой сын — проклятый!
— А даже если так?
— И ты спокойно признаешь это?!
— Я не признаю. Я допускаю. И повторяю: что с того?
— О боги! Вы слышите его безумные речи?
— Берегись, брат мой. Стрелы проклятий бьют исподтишка. Никогда не знаешь заранее, в кого они угодят.
— Благодарю тебя, судьба, что у меня нет сыновей! На дочерей не ляжет черная тень Пелопсовой судьбы…
— И снова берегись, брат мой. Ты младший меж сыновей Персея. И жена твоя молода. У тебя еще может родиться сын. Как знать, не вспомнишь ли ты однажды о проклятии Пелопса…
— Мой сын будет властвовать над Микенами!
— Полагаешь, спинка троноса — надежная защита от судьбы?
Не найдя, что ответить, Сфенел, ванакт микенский, вскочил с кресла — и забегал по мегарону. Гнев переполнял его, гнев и бессилие. Так было всегда при разговорах со старшим братом. Хоть не езди в Тиринф! Алкей доводил Сфенела до бешенства, от которого щипало в носу, а на глаза наворачивались слезы. Нет, это очаг дымит. Надо изругать рабов-бездельников… С размаху Сфенел врезал кулаком по колонне. Боль отрезвила, вернула ясность рассудку.
— Начнем сначала, — предложил он. — Что тебя беспокоит?
— Три года мой сын шляется по Пелопоннесу…
Шляется, оценил Сфенел. В голосе брата звучала плохо скрываемая ярость. Брат раздражен сыном-изгнанником. Сперва так переживал, что чуть не превратился в вареную репу, а теперь глядите-ка! — ожил, велел доложить о странствиях любимца и, свесив руку с ложа, чертит на песке странные знаки. После суда, решившего судьбу убийцы, Алкей больше не вставал на ноги — хоть с костылем, хоть при помощи слуги. Первенец великого Персея сделался неимоверно тучен, заплыл жиром: дряблая гора плоти. К двум носильщикам добавили третьего — иначе силачи-номады срывали спины. Тут и у быка хребет треснет! Цена, какой Алкею давались будничные пустяки — например, опрятность — была, пожалуй, чрезмерной. Калека терпел, не отягощая близких жалобами. Лишь взгляд его день ото дня набирал бритвенной остроты, как если бы зрачки — клинки из бронзы — точили на оселке страданий. Временами Сфенелу казалось, что в недрах Алкеевой туши, вернувшись из царства мертвых, прячется отец, Убийца Горгоны. А взгляд брата — это блеск отцовского меча.
— Ну и пусть! — отмахнулся он. — Жив, и ладно.
— Было у отца три сына… — с непонятной насмешкой произнес Алкей. — Я лежу в Тиринфе. Ты сидишь в Микенах. Амфитрион меряет Остров Пелопса из конца в конец. От Пилоса до Трезен. От Коринфа до Спарты. Месяц за месяцем, год за годом. Амфитрион, убийца владыки Микен.
— Владыка Микен — я!
— Это сегодня. Амфитрион же носит в котомке вчерашний день. Как знать, не превратится ли вчера в завтра? Тем более, что котомка — не единственная спутница изгнанника. Убийца скитается вместе с вдовой убитого, дочерью убитого и последним, оставшимся в живых, сыном убитого.
— Ликимний — ублюдок! Пащенок, рожденный от рабыни!
— Да, в нем мало Персеевой крови. Но она есть. Впрочем, оставим малыша в покое. Ты слышал, что я сказал?
— Я не глухой!
— Сомневаюсь. Давай еще раз, сначала. Что ты услышал?
— Что твой драгоценный сыночек меряет Пелопоннес в компании Электрионовой вдовы…
— А должен был услышать совсем другое. Мой сыночек держит вдову при себе. Он не отправил ее домой, в Тиринф или Микены. Он заботится о вдове, кормит и поит, защищает от разбойников. Что это значит для болтунов и зевак? Что это значит для хитроумных басилеев Аркадии и Элиды?
Вместо ответа Сфенел опять приласкал колонну кулаком. Дерево глухо застонало; посыпалась краска. Больше всего на свете младшему Персеиду хотелось послать старшего в Тартар со всеми его намеками и допросами. Который раз Сфенел собирался с духом — «Сопляков учи! Слугами командуй! А я — ванакт! Кто дал тебе право…» — и гневные слова в последний момент каменели на языке. Вернувшись в Микены, он наедине с собой разучивал воинственные речи, в финале которых Алкей неизменно признавал свое поражение и клялся в почтении к Сфенелу Великолепному. Увы, в присутствии брата медь ораторского искусства превращалась в труху.