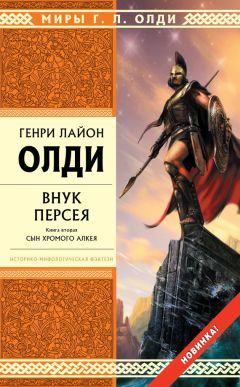— Все?
— Все.
Амфитрион долго молчал, прежде чем кивнуть.
— Скажи отцу, — бросил он, глядя в пол, — что у Анаксо никогда не было сыновей.
У Гия глаза полезли на лоб. Но, советник и сын советника, быстро сообразил, что к чему. Тут не требовалось много ума.
— Понял?
— Понял. Не было сыновей. Что тут сложного?
— Молодец. Далеко пойдешь.
В устах изгнанника это звучало издевкой.
— И ты уйдешь с Пелопоннеса? — настаивал воспрянувший Гий.
— Не знаю, — сказали глина и лед, и бронза. — Не дави на меня, если тебе дороги твои ноги. Мало ли, что язык в Тиринфе…
— Эй! Есть кто живой!
Кричали со двора. Гий выскочил первым, забыв, кто в доме хозяин. Амфитрион вышел следом, не торопясь. Юнец-скороход приплясывал у калитки, словно на щиколотках его трепетали крылышки.
— Радуйся! — завопил скороход Амфитриону, всем своим видом показывая, как мало он чтит какого-то там изгнанника, и как быстро он убежит в случае чего. — Басилей Меламп велит тебе идти во дворец! И не мешкай!
— А то передумает? — хмуро поинтересовался Амфитрион.
Юнец изумился:
— Передумает? Это вряд ли. Помрет, и опоздаешь.
Первыми его встретили темнота и запах. Ноздри затрепетали: да, Амфитрион не ошибся. Пахло кислыми огурцами и мускусом. Впрочем, запах показался сыну Алкея не растительным, а скорее хищным, намекающим на опасность, притаившуюся во мраке. Дверь за спиной захлопнулась, оставив гостя в кромешной безвидности. «Неужели так легче умирать?» — подумал Амфитрион. И ответил сам себе: кому как.
Я бы, пожалуй, рвался отсюда до последнего.
«Не жилец,» — сказал ему в коридоре Биант, брат умирающего. И повторил с изумлением ребенка, впервые открывшего для себя коварство мира взрослых: «Да, не жилец. Как же я теперь?» Всю жизнь Биант провел в тени мудрого, предусмотрительного Мелампа, и сейчас, сам старик, не мыслил существования в одиночку. Ждать от Бианта очищения — проще ковать тряпку, дожидаясь, когда же она станет мечом. Глядя на седого простака, украдкой смахнувшего слезу, Амфитрион решил, что скорее принял бы смерть, чем такое подчиненное, ущербное бытие.
Во тьме зашевелились. Раздался сухой шелест — наверное, льняное покрывало сползло на пол. Запах усилился, затем резко пошел на убыль. Амфитрион услышал кашель. Вскоре тьма заговорила.
— Уходи! — крикнула тьма.
Сын Алкея не знал, что делать. Уйти? Остаться? Перед ним на смертном одре лежал отравитель. Это было давно; беспощадный дед простил мерзавца, юный внук — нет. Никогда Амфитрион не лелеял мысли о мести, особенно сейчас. Просто знал: Меламп? — нет прощения. Даже явившись к Мелампу в поисках очищения, он разделял басилея, способного избавить от скверны, и предателя, налившего яд в чашу Убийцы Горгоны.
— Уходи!
Амфитрион повернулся, шагнул к двери.
— Уходи с Пелопоннеса! Здесь у тебя нет судьбы!
Хриплый, надсадный голос. Меламп словно хотел докричаться до гостя с другого берега Леты, реки забвения — стоя одной ногой в царстве теней. Слова его ударили Амфитриона наотмашь — слова отца, хромого Алкея, и слова Питфея, трезенского правителя-провидца, вложенные в уста мертвеца. Лишь теперь Амфитрион понял, что все эти дни, узнав о безнадежном состоянии Мелампа, думал о нем, как о мертвеце.
— Почему? — спросил Амфитрион. — Почему нет?
Кашель был ему ответом. Нет, не кашель — смех.
— Два выхода, мальчик! — хохотала тьма. — Два выхода из любого тупика!
— Ты уже говорил мне это. Помнишь?
— Два выхода! И оба тебе не понравятся…
— Издеваешься?
— Останься на Пелопоннесе — и живи без судьбы! Уйди — и встреть судьбу! Что тебе нравится больше?
— Больше мне нравится ягнячья печенка. С аркадским красным.
Тьма замолчала. Ни кашля, ни смеха. Позже мрак вздохнул:
— Печенка… Меня кормят жидкой кашицей. Иди в Фивы, мальчик.
— Почему не в Додону? Или на Крит?
Разговор с человеком, чей разум помутился от дыхания Таната Железнокрылого, утомил Амфитриона. От кислой вони тошнило. Фивы, подумал он. Какая разница? Отец прав: Пелопоннес не для меня. Вот и этот талдычит: уходи… Глаза привыкли к темноте. Амфитрион уже различал низкое ложе, Мелампа, до шеи укрытого одеялом. Под одеялом все время что-то шевелилось, напоминая изгибы змеиного хвоста. Ноги умирающего находились в непрерывном, неприятном движении. Агония? Сын Алкея прикинул, что бы он увидел, сбрось Меламп одеяло, и решил, что не хочет этого видеть.
— Иди в Фивы, — повторил Меламп. — Я знаю. Я — покойник, и снова знаю…
И нутряным, истошным воплем:
— Война!
— Какая война? — вздрогнул Амфитрион. — С кем?
— Война!
— Когда? Завтра? Через год?
— Война!
— Десять? Двадцать? Пятьдесят лет?
— Больше! Ты будешь биться на той войне!
Амфитрион представил себя лет эдак восьмидесяти пяти — в доспехе, с копьем и щитом. Богоравный, ничего не скажешь. Песок сыплется, шамкает беззубый рот. Берегись, враг! — вот я, грозный сын хромого Алкея. Кто узрит, со смеху сдохнет.
— Ты будешь биться на великой войне! Ты вернешься с нее живым мертвецом! Мальчик, у тебя всегда было два выхода: ты умрешь там во второй раз — и пойдешь дальше…
Бредит, понял Амфитрион. Прощай, Меламп.
— Боги! Под стенами Трои родятся новые боги! Родятся и погибнут! Прошлое изменится, и изменится вновь — никто не узнает, как мы жили на самом деле… что было с нами…
Тьма зашевелилась — вся. Амфитриону почудился звон бронзы. Крики воинов, свист стрел, удары копий о щиты — далеко, на грани слуха. Плеснула волна о берег. Заржала лошадь. Тьма ворочалась, содрогалась, бессильна вместить бред умирающего — или видения пророка. «Я не только излечиваю, — давным-давно сказал Меламп жестоко простуженному мальчишке, чье имя означало Два-Выхода. — Я еще и прорицаю.» Амфитрион забыл эти слова, не придал им значения. С тех пор он ничего не слышал от людей о пророчествах Мелампа. Не думал о нем, как о прозрителе, толкователе знамений. И вот — колебания тьмы, приводящие в трепет.
«Иди в Фивы…»
Сын Алкея боялся надежды, как замерзающий путник — сна.
— Умри легко, Меламп, — пожелал он, прежде чем выйти. — Тени беспамятны. Думаю, так для тебя будет лучше.
Меламп не ответил. Во мраке, царящем в сознании умирающего, шла война — грядущая, для Мелампа она началась сегодня. И змеиный хвост, заменивший Мелампу ноги, превращал одеяло в волны моря. На пороге Аида к фессалийцу вернулся не только дар провидца, но и облик, дарованный при рождении.