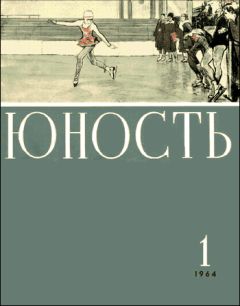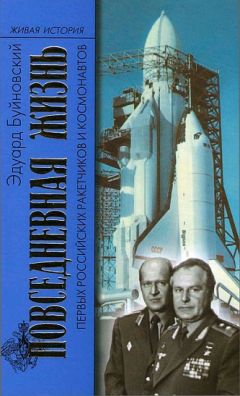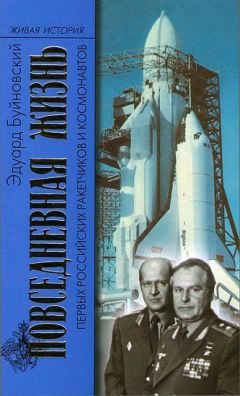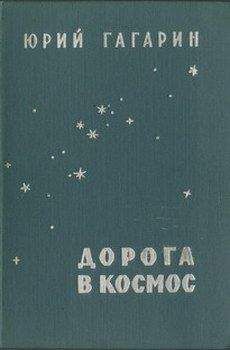Вошла жена.
— Пей чай, Степа. Совсем остыл... И ложись, уже поздно.
«Надо заехать к нему», — думает Степан Трофимович. И сейчас ему кажется, что он съездит, завтра же съездит в больницу, выберет время и съездит...
Он не съездил: утром он улетел в Москву.
Прошло два месяца.
Вечер. Пустынная набережная. Вдалеке две маленькие фигурки. Погромыхивая бортами, летят грузовики. А легковые машины — сами по себе. И даже как-то не верится, что в них — люди. Сидят, смотрят по сторонам, видят эти две маленькие фигурки у гранитного парапета. Слепые, деловитые легковые машины, вроде бы живущие своей, не связанной с людьми жизнью.
Андрей и Нина идут по набережной. Там всегда мало народа. Андрей в штатском. Серый костюм, модный такой, «пижонский», с разрезами по бокам пиджак.
— А вот еще, — весело говорит Андрей. — Вспомнил. Американец, француз, англичанин, русский и еврей летят в самолете...
— Раздолин, что с тобой? — перебивает Нина.
— А что?
— Вот я и спрашиваю: что?
— Ничего...
— Почему ты сегодня все скользишь из рук, похохатываешь... Что-нибудь случилось?
— Ничего не случилось.
— Это неправда. Но ты можешь не говорить. Только не надо вот так...
Андрей молчит. Идут дальше, вроде бы как и шли, а уже не так: произошло еле уловимое смещение фигурок на пустынной набережной.
— Слушай, — говорит Андрей. Он останавливается, берет ее за плечи. — Хорошо. Я скажу. Ну кому же я еще могу сказать?.. Нина, это очень важно. Сегодня было решение: полетит Воронцов и я.
— А Толя? — рассеянно спрашивает Нина.
— Толя — дублер Воронцова.
— Ну как же так? Бахрушин говорил, что вероятнее всего Агарков и Воронцов...
— Я сам не знаю, как... Я очень хотел... Я очень счастлив, Нинка...
— Раздолин... Ты летишь на Марс? А как же я?
— Как ты? Но ведь я же прилечу.
Она обняла его крепко и, зажмурившись, прижалась головой к его груди.
— Я глупая, Раздолин... Да-да, все верно, все верно... Ведь ты же прилетишь...
— Нинка, послушай, — быстрым шепотом говорит Андрей, — я вчера еще ничего не знал... И вот вчера я не спал долго и все думал... Я мальчишкой жил в Гурзуфе одно лето... Помню море и скалы в зеленых водорослях... И ночью луну, очень большую... Мы поедем туда, Нинка, когда я вернусь... Я хочу просыпаться рано-рано и гладить тебя по голове, когда ты спишь. А потом мы побежим на море... Ты будешь такая сонная, растрепанная... Потом будем пить молоко и молчать... А вечером, когда луна, мы уйдем в черную тень деревьев, и я буду тебя целовать и говорить самые ласковые слова, какие знаю... Но все это должно быть после Марса, понимаешь... Я думал вчера, что если я не полечу, так, наверное, не будет... Понимаешь...
— Так будет, так обязательно будет... Какое сегодня число?
— Двадцать второе июня.
— Уже скоро. Я буду ждать тебя. Ты даже не знаешь, как я буду ждать тебя, Раздолин!
Две маленькие фигурки стоят, прижавшись друг к другу на большой пустой набережной. Только машины снуют взад-вперед по своим машинным делам, и плевать они хотели на людей.
И вот настал день их отлета на космодром.
Они вылетели поздно вечером. Самолет долго выруливал на старт, и Нина смотрела, как за иллюминатором медленно проплывали цветные фонарики у края бетонированной дорожки. Потом самолет остановился. Взревели двигатели, он задрожал, возбужденный предстоящим бегом. Он стоял еще несколько секунд, словно глубоко вздыхая перед трудным делом, которое ему предстоит. Потом побежал быстрее, быстрее, вздрагивая на стыках бетонных плит. Потом Нина почувствовала, что он перестал вздрагивать: они уже летели.
В самолете человек двадцать. Нина сидела со своими ребятами, но впереди, одна. «Он приедет через неделю, — думала Нина, — и, конечно, ему будет не до меня... А потом... Потом еще шесть месяцев. Целых шесть месяцев я не увижу его... Он спрашивал: «Не забудешь?» Глупый мальчик... Господи, какой он глупый, мой мальчик...»
За Ниной, уткнувшись в журнал, сидел Маевский, решал кроссворд. Рядом Ширшов с английской книжкой в руках и словарем на коленях. Он заглянул в словарь и тронул локоть Юрки.
— Смотри, «credit», по-английски — это кредит, честь, вера, уважение, влияние. Неплохо, а?
Маевский посмотрел на него невидящими глазами. Такой взгляд бывает у людей, когда они на ощупь ищут что-нибудь в карманах и не могут найти.
— Вот дьявол! Остров в Эгейском море, пять букв, кончается на «ос».
Сергей призадумался, потом сказал убежденно:
— Там все острова на пять букв и у всех на конце «ос»: Родос, Милос, Самос, Парос...
— А есть такой — Парос?
— Вроде бы должен быть.
Юрка мгновенно отключился, нырнул в кроссворд, зашептал беззвучно губами.
Через проход от них — Борис Кудесник и Виктор Бойко. Кудесник откинул спинку кресла и закрыл глаза. Виктор задумчивый. Впрочем, он всегда задумчивый. Смотрит в иллюминатор. Там просто темень, ни огонька.
— Боря, — тихо спрашивает Виктор, — кто твой любимый поэт?
— Пушкин, — отвечает Кудесник, не открывая глаз. — Тебе это не кажется примитивным?
— Чудак, — ласково говорит Виктор.
Кудесник тихо, почти шепотом вдруг начинает читать стихи:
Я новым для меня желанием томим:
Желаю славы я. чтоб именем моим
Твой слух был поражен всечасно, чтоб ты мною
Окружена была, чтоб громкою молвою
Все, все вокруг тебя звучало обо мне.
Чтоб, гласу верному внимая в тишине.
Ты помнила мои последние моленья
В саду, во тьме ночной, в минуту разлученья.
— Ты понимаешь, это Пушкин писал. Пушкин! — Он помолчал и добавил: — Вот за это я его и люблю: за правду. Самое глазное в поэзии — правда.
— И не только в поэзии, — сказал Виктор.
— Да, не только...
— Ложь накапливается в человеке, как ртуть, — отвернувшись к иллюминатору, сказал Виктор. — Ртуть ничем из человека не достанешь, не залечишь... Так и ложь... Можно, конечно, скрыть ложь ложью... Как и скрыть ртуть в своем теле, улыбаться... Но, если доза большая, это приводит к смерти... Да, ты хорошо сказал: главное — правда... Что такое коммунизм? Наверное, уничтожение всякой лжи...
Кудесник открыл глаза.
— Этого мало, Витя. По-моему, Наполеон говорил, что есть две силы, способные двигать людьми, — личная выгода и страх. Для меня коммунизм — в уничтожении этих двух сил. А ложь — уже потом. Ложь — это первая производная от страха. Подлость — вторая производная...
— Когда мы прилетаем? — обернулась Нина.
— В четыре утра, — сказал Кудесник.
Скоро рассвет. И все предметы в комнате являются из темноты, начав светиться, словно изнутри, чуть приметным, мягким светом. Это даже не свет, а воспоминание о свете. Наступает редкое время, которого не бывает вечером: время призрачной темноты. Свет уже незримо проник в нее и разрушает, растворяет сумерки...