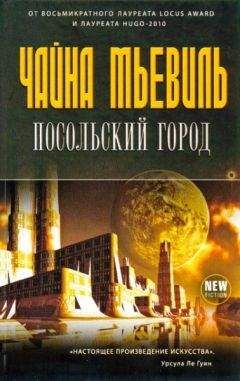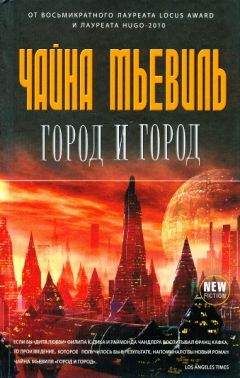Когда мы говорим, к примеру, «рот», то звуки «р», «о» и «т», связанные определённым образом, всегда воспринимаются нами как одно и то же слово. Независимо от того, кто его произносит: я, Скайл, какой-нибудь шурази или не умеющая думать компьютерная программа. У ариекаев всё по-другому.
Их язык, как и все остальные в мире, складывается из упорядоченных шумов, но каждое слово для них — как воронка. Для нас каждое слово имеет свой смысл, а для них слово — это отверстие. Дверь, сквозь которую можно увидеть означаемое, то есть мысль, связанную с ним.
— Если я запрограммирую машину на всеанглийском так, чтобы она повторяла одно и то же слово, ты его поймёшь, — объяснял Скайл. — Если я запрограммирую машину словом из языка Хозяев, то я его пойму, а они — нет, потому что для них это всего лишь звук, в котором нет смысла. За словом должен стоять разум.
Разум Хозяев неотделим от их раздвоенного языка. Они не могут учить другие языки, потому что неспособны даже помыслить об их существовании, равно как и о том, что шумы, которые мы производим, — это слова. Хозяин понимает лишь то, что сказано на его Языке, осознанно, кем-то, у кого есть мозг. Вот что сбивало с толку ранних уклологов. Когда их машины говорили, Хозяева слышали только шум.
— Нет другого языка, который работал бы так же, — сказал Скайл. — «Человеческий голос способен постигать себя как звук самой души».
— Кто это говорил? — спросила я. Ясно было, что он цитирует.
— Не помню. Философ какой-то. Всё равно это не верно, и он это знал.
— Или знала.
— Или знала. Это не верно, по крайней мере, для человеческого голоса. Но ариекаи… говоря, они и вправду в каждом голосе слышат душу. Так у них передаётся смысл. В словах есть… — Он с сомнением покачал головой, а потом сказал просто, как говаривали в старину: — В них есть душа. Она должна быть, чтобы был смысл. Слово должно быть правдой, чтобы стать Языком. Вот зачем они делают сравнения.
— Как со мной, — сказала я.
— Как с тобой, но не только. Они делали их уже тогда, когда тебе подобных не было ещё на их планете. И пользовались для этого чем угодно. Животными. Своими крыльями. И тот расколотый камень — тоже сравнение.
— Расколотый и починенный. Вот что главное.
— Ну, в общем, да. Они раскололи его и склеили, чтобы потом иметь возможность сказать: «Это как тот камень, который был расколот и склеен». Что бы это ни значило.
— Но я думала, что они не так часто прибегали к сравнениям. До нас.
— Да, — сказал Скайл. — То есть… нет.
— Я могу подумать о чём-то, чего на самом деле нет, — сказала я. — И они тоже. Ведь это же очевидно. Как иначе они могли бы планировать свои сравнения?
— Не… совсем. У них нет никаких «а что, если…», — сказал он. — В лучшем случае, представление о том, чего нет, рождается в их головах как призрак призрака. В их Языке всё — правда. Сравнения нужны им для сопоставлений, для того, чтобы сделать правдой то, чего нет, но что им нужно сказать. Вряд ли они могут об этом подумать: может быть, просто таковы требования Языка. Душа, та душа, о которой я говорил, — это то, что они слышат в речи послов.
Лингвисты изобрели похожий на музыкальную партитуру способ записи двух переплетённых звуковых потоков Языка, дав обеим частям названия в соответствии с какими-то давно утраченными значениями: голос Поворот и голос Подрез. Их, наша, человеческая версия Языка была более гибкой, чем оригинал, который она копировала довольно приблизительно. Ей можно было обучить машины, ею можно было писать, и всё равно она оставалась непонятной Хозяевам, для которых Языком была речь, произнесённая кем-то, кто думает мысли.
— Ему нельзя научиться, — сказал Скайл. — Всё, на что мы способны, — скопировать их звуки, а этого недостаточно. Мы создали обманную аварийную методологию, к чему были просто вынуждены. Наши мозги работают не так, как у них. Чистая случайность смогла помочь нам заговорить на их языке.
Когда Урих и Беккер заговорили вместе, вкладывая в слово искреннее, разделяемое обоими чувство, причём один говорил Поворотом, а другой — Подрезом, искра смысла сверкнула там, где не преуспели зеттабайты электроники.
Разумеется, потом они пробовали снова и снова, они и их коллеги часами репетировали дуэтом слова со значением «здравствуйте» и «мы хотим поговорить». Мы наблюдали за ними в записи. Слушали, как они учат слова.
— Звучит, по-моему, безупречно, — говорил Скайл, и даже я опознавала отдельные фразы, но ариекаи, по-видимому, нет. — У. и Б. не имели общего разума, — сказал Скайл. — За каждым их словом не стояла единая мысль.
Хозяева реагировали уже не с тем безразличием, с каким они выслушивали машинно-синтезированную речь. В основном пары оставляли их равнодушными, но к иным они прислушивались с большим вниманием. Они знали, что к ним обращаются, хотя с какими именно словами, понять не могли.
Лингвисты, певцы, специалисты по психике обследовали те пары, которые вызвали наибольший интерес. Учёные хотели знать, что между ними общего. Так возник тест двухэлементной эмпатии Штадта. Двое достигают определённого порога на крутом вираже взаимной понимаемости, за которым запускается механизм связи разных мозговых волн, синхронизирующий и соединяющий их, и вот они уже способны убедить ариекаев в том, что звуки, которые они производят, — не просто шум.
И всё же ещё тысячи часов после контакта коммуникация оставалась невозможной. Много времени прошло, прежде чем исследования в области эмпатии дали свои плоды. Лишь немногие пары людей набирали приличный балл по шкале Штадта, приличный настолько, чтобы изображать единый мозг за фасадом звуков, которые они воспроизводили, как чревовещатели. Это и был тот минимум, без которого не выстраивался межвидовой контакт.
Кто-то пошутил, что колония нуждается в двойных людях. В этом и крылось решение проблемы.
Первыми собеседниками Хозяев стали прошедшие изнуряющую подготовку монозиготные близнецы. В большинстве своём они владели Языком не лучше других людей, однако успешных пар среди близнецов было выявлено больше, чем среди других контрольных групп. Говорили они ужасно, теперь мы это знаем, так что непониманиям между ними и ариекаями не было конца, но это был прорыв, который делал, наконец, возможной торговлю и демонстрировал стремление учиться дальше.
Я только раз в жизни встречала пару идентичных близнецов — не уроженцев Послограда, я имею в виду, — в порту на Треоне, холодной луне. Они танцевали, у них было своё шоу. Разумеется, они были кровными, а не искусственными близнецами, но всё же. Я онемела, когда их увидела. От их похожести, но не только. В основном от того, что они были не совсем одинаково одеты и причёсаны, их можно было различить по голосам, они могли находиться в разных частях комнаты и говорить с разными людьми.