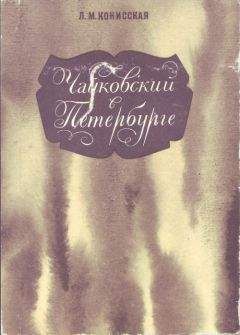…Так как занятия мои делаются все серьезнее и труднее, то я, конечно, должен выбрать что‑нибудь одно.
…Я уже достал себе на будущий год несколько уроков… я совершенно отказался от светских удовольствий, от изящного туалета и т. п.
…После всего этого ты, вероятно, спросишь, что из меня выйдет окончательно, когда я кончу учиться? В одном только я уверен, — что из меня выйдет хороший музыкант и что я всегда буду иметь насущный хлеб».
В своих воспоминаниях о Чайковском Ларош часто возвращается к описанию его привычек, внешности, образа жизни. Вот каким рисует он Петра Ильича времен консерватории:
«Двадцатидвухлетний Чайковский, с которым я познакомился в Петербургской консерватории, был светский молодой человек с лицом, вопреки моде, уже тогда всеобщей, совершенно выбритым, одетый несколько небрежно, в платье от дорогого портного, по не совсем новое, с манерами очаровательно простыми и, как мне тогда казалось, холодными; знакомых имел тьму, и когда мы вместе шли по Невскому, сниманиям шляп не было конца.
Раскланивался с ним преимущественно (но не исключительно) народ элегантный.
…Прибавлю, что Петр Ильич, в восьмидесятых годах неутомимый пешеход, в это раннее время и еще долго после совсем не умел ходить пешком… и если я сейчас говорил, что я хаживал с ним по Невскому, то это такое исключение, которое свойственно петербуржцу: по Невскому ходят даже такие, которые вообще не ходят.
Особенно это верно относительно шестидесятых годов, когда по его широкому тротуару прохаживались безо всякой цели, взад и вперед».
Герман Ларош.
Музыкальные познания Чайковского в это время были, мало сказать, ограниченны, но для двадцатидвухлетнего человека, решившего специально посвятить себя композиции, пугающе малы: он отлично играл на фортепьяно и прошел курс гармонии по учебнику Адольфа Бернгарда Маркса или, что все равно, по лекциям профессора Зарембы. Нужно долго рыться в истории музыки, чтобы найти пример «выдающегося композитора, начавшего так феноменально поздно. Само собою разумеется, что знания его быстро росли….Он интересовался критикой литературной. О Добролюбове и Чернышевском — у нас с ним были разговоры, о музыкальных критиках — никогда».
Чайковский, по свидетельству его друзей, ежедневно просматривал в книжном магазине все газеты и толстые журналы. Среди них был «Современник», где печатались такие авторы, как Чернышевский, Гончаров, Тургенев.
Модест Ильич говорил, что если у Петра Ильича и были какие‑нибудь политические взгляды, то они зависели в основном от тех товарищей, с которыми он общался.
Возможно, что эмоциональный молодой Чайковский и заражался настроениями своих друзей, но главное все же было в том, что духовно развивался и рос он в эпоху шестидесятых годов.
Очень много нового принесли в жизнь России те годы в самой близкой Чайковскому области — в музыке: и открытие Музыкальных классов, и Бесплатная музыкальная школа, одним из руководителей которой был бывший учитель Петра Ильича хоровой дирижер Я. Ломакин.
С именем другого ее основателя — М. А. Балакирева было связано одно из самых значительных творческих направлений шестидесятых годов — содружество молодых композиторов М. П. Мусоргского, А. П. Бородина, Н. А. Римского–Корсакова и Ц. А. Кюи, — балакиревский кружок. Известный музыкальный критик В. В. Стасов, бывший идейным руководителем этой новой русской школы, дал, как известно, им меткое название, вошедшее в историю музыки, — «Могучая кучка».
Да ведь и созданная А. Г. Рубинштейном первая русская консерватория была тоже порождением прогрессивных идей шестидесятых годов.
О пребывании Чайковского в консерватории сохранились воспоминания его товарищей.
Его соученица А. Спасская вспоминала, как серьезно и сосредоточенно сидел Чайковский на уроках, как–то всегда «особняком», сложив на груди руки и очень внимательно следя за каждым словом преподавателя.
Он никогда не вел записок, но «строго вдумывался в приводимые примеры» и часто задавал профессору вопросы.
Она же рассказывает, как, в сущности, один только Чайковский мог удовлетворить строгим требованиям Антона Рубинштейна, которого все ученики буквально обожали.
«Помню, — отмечает Спасская, — как, пройдя с нами довольно большое уже количество инструментов, в том числе и арфу, Рубинштейн задал нам написать и инструментовать с применением арфы сцену у фонтана из «Бориса Годунова». Никто, конечно, не написал ничего, только один Чайковский выполнил блестяще это требование.
…Я не пропускала ни одного случая послушать лекцию и разбор зарождавшегося таланта Чайковского, часто, придя в класс и видя, что никого нет, кроме него и еще кого‑нибудь из учеников, Антон Григорьевич брал его сочинение, просматривал его стоя или, держа тетрадку в руках, выходил в залу и начинал ходить по ней, сопутствуемый своими немногими слушателями.
…Часто наш маленький кортеж останавливался перед роялем, и Рубинштейн проигрывал те места сочинений, в которых указывал на какие‑нибудь особенности».
Об уроках Рубинштейна рассказывал и другой его ученик— А. И. Рубец:
«…Рубинштейн, несмотря на то, что был занят с утра до вечера, назначил теоретикам особые занятия от 6 до 9 вечера.
Они состояли в том, что он читал стихотворения, а учащиеся должны были набрасывать тут же музыку для одного или нескольких голосов, кто как чувствовал и понимал, сочинять надо было в эскизах, а на следующий день работы должны были приноситься уже законченными и переписанными…»
Дальше А. И. Рубец вспоминал, как однажды Рубинштейн, очень довольный, вошел во время урока в класс Зарембы, взял его под руку и сказал: «Идемте ко мне, я вас познакомлю с пробным сочинением Чайковского». Ученики Зарембы радостно бросились за преподавателями. Оказалось, что было задано написать музыку на стихотворение «Ночной смотр» Жуковского. То самое, на которое уже была написана музыка Глинкой. Сочинение Чайковского было, по словам Рубца, не романсом, а «целой сложной картиной». Аккомпанемент каждой строфы был разнообразен и сложен.
Ученики стали аплодировать автору, а Ларош «восторженно заявил, что эта пьеса поражает его как концепцией, так и правдой музыки, отвечающей вполне стихам Жуковского».
— Ну, теперь, Николай Иванович, идите заканчивать ваш урок, — сказал Рубинштейн, поблагодарив Зарембу за такого ученика.
С этого дня Ларош особенно сблизился с Чайковским.
Нет сомнения, что Рубинштейн очень скоро заметил выдающееся дарование молодого композитора, но свое признание он выражал не похвалами, а все большими и большими требованиями.