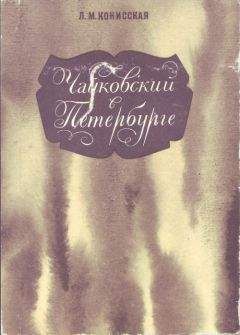В те годы Русское музыкальное общество каждый вторник давало концерты в зале Городской думы на Невском. И на эти концерты, и на все генеральные репетиции оперных спектаклей консерваторцев пускали бесплатно.
И неизменно всюду присутствовала неразлучная пара — Чайковский и Ларош, непременно с партитурами и тетрадями в руках. Тогда же услышали они и Клару Шуман, концертировавшую в Петербурге в 1864 году.
Н. И. Заремба.
Студенты консерватории в то время увлекались концертами этой пианистки, особенно им нравились «Симфонические этюды» и «Карнавал».
Ларош вспоминал впоследствии, что у Чайковского всегда была страсть к театру.
С годами стал увеличиваться его интерес к русской опере. И немудрено: до шестидесятых годов русская опера была в полном загоне. Ее ставили иногда в театре–цирке, иногда в Александринке, тратя на постановку как можно меньше средств.
В шестидесятые же годы вместе с пробуждением общественного сознания проснулся интерес ко всему отечественному, национальному, появились на сцене русские оперы—возобновились постановки «Руслана и Людмилы», «Русалки».
В то время Чайковский был еще очень молод и, возможно, не вдумываясь в происходящее, просто наслаждался чудесной музыкой.
Тогда она была близка ему бессознательно.
Но пройдет всего два–три года, и в газетах начнут появляться страстные статьи–фельетоны молодого профессора Московской консерватории и журналиста П. И. Чайковского.
Со всем своим пылом он будет на страницах газет бросаться в бой и за «Сербскую фантазию» Римского-Корсакова, и в защиту М. А. Балакирева, несправедливо обиженного великой княгиней Еленой Павловной — «покровительницей» Русского музыкального общества, будет бороться против засилия итальянской оперы и за славу отечественной русской музыки.
Почти во всех его будущих творениях зазвучит пленительная неизменно русская интонация.
А спустя еще несколько лет он, находясь на чужбине, напишет такое теплое, такое искреннее признание:
«…Я еще не встречал человека, более меня влюбленного в матушку Русь… Я страстно люблю русского человека, русскую речь, русский склад ума… влюбленный человек любит не потому, что предмет его любви прельстил его своими добродетелями, — он любит… потому что он не может не любить…»
И уже совсем незадолго до смерти он напишет: «…я реалист и коренной русский человек…»
Но это все будет позже. А сейчас семена, брошенные в его душу печальными песнями воткинских крестьян, музыкой великого Глинки, начинали давать первые ростки.
Итак, в сезон 1864/65 года была снова поставлена опера Глинки «Руслан и Людмила». На Петра Ильича она произвела большое впечатление. До этого времени он ни разу не слышал ее полностью, хотя знал из нее много отрывков, слышанных в концерте.
Постановка была нищенской, хоры и оркестр плохими, но для молодежи все искупала гениальность музыки.
Друзья бегали слушать «Руслана», когда только было можно, и вскоре чуть не всю оперу знали наизусть.
Очень полюбил Чайковский еще одну оперу — «Юдифь» Серова, поставленную в 1863 году. Он знал ее еще до премьеры, так как с другими консерваторцами посещал все репетиции.
Любовь к этой опере, как воспоминание юности, он сохранил навсегда и незадолго до смерти говорил в одном интервью: «Мне кажется, что испытанные в годы юности восторги оставляют след на всю жизнь и имеют огромное значение при сравнительной оценке нами произведений искусства даже, в старческие годы… Опера была впервые дана в мае 1863 года, в чудный весенний вечер. И вот наслаждение, доставляемое музыкой «Юдифи», всегда сливается с каким‑то неопределенным весенним ощущением тепла, света, возрождения!»
А. И. Рубец тоже вспоминал об этом спектакле, на который четверо молодых музыкантов, учеников консерватории — Чайковский, Ларош, фон Арк и он сам — вскладчину взяли маленькую ложу.
Опера понравилась всем четверым: «Наша ложа бесновалась и радовалась, что Серов… выказал себя прекрасным композитором».
Присутствовавший на спектакле Кюи ходил по коридору и говорил: „Посмотрим, что будет дальше, а пока мы слышали только пережевывание Мендельсона"».
Но и это не охладило восторга молодежи. Да и вся публика приняла оперу замечательно. «Серова вызывали до 60 раз», — вспоминал А. Рубец.
Впрочем, когда Ларош ввел однажды своего друга в музыкальный салон Серова, Чайковский, несмотря на восхищение оперой, был у ее автора всего несколько раз. Об этих немногих посещениях Чайковским квартиры Серова сохранились воспоминания людей, присутствовавших при этом. Архитектор Иван Александрович Клименко, ставший впоследствии другом Петра Ильича, писал:
«Познакомился я с Петей у Серова. Однажды, в один из вторников, нахожу у Серова двух новых лиц, которые сразу пленили меня: один — очень молодой, необыкновенно приветливый, благовоспитанный, другой — почти мальчик, с лицом, напоминавшим мне бюст Шиллера (это был Ларош)… Сей последний очень много и интересно говорил и острил… На лице Пети все время было написано искреннее удовольствие от того успеха, который имел Маня (уменьшительное от имени Лароша — Герман. — Л. К.)».
Вспоминала об одном из таких посещений маститого композитора (возможно, как раз о первом) и жена Серова:
«В 1865 году в маленьких комнатах дешевой петербургской квартиры в 4–м этаже (квартира Серовых тогда была на Офицерской, в доме Маркелова, — ныне ул. Декабристов, 29. — Л. К.) появилось новое лицо.
Это лицо обратило на себя внимание Серова, и он стал особенно усердно язвить консерваторское учение, нападать на рутину, энергично протестовать против всего учебного строя своего времени. Новый посетитель, для которого так распинался Серов, был П. И. Чайковский. Не помню теперь, какое впечатление произвели на него все эти бурные речи; он только что кончал Консерваторию, не составил себе даже славы экстраординарного воспитанника (как, например, Ларош, который его привел к нам); робко смотрел он своим открытым юношеским взором на разгоряченного оратора–хозяина и, хотя не протестовал словом, но, видимо, был не согласен с Серовым».
Наверное, не понравилось молодому музыканту у знаменитого композитора, да ведь и времени для посещений было так мало!
О некоторых чертах быта друзей в то время можно тоже узнать из воспоминаний Лароша.
В 1863 году «в Петербурге открылось около полудюжины маленьких кофеен в подвальных этажах (одна из наиболее известных — в доме Голландской церкви на Невском. — Л. К.). И кофе и чай в них было по 5 копеек стакан. Вся «аристократия» учеников Консерватории… сразу повалила в эти подвалы, манившие к себе дешевизной, …в известные часы дня положительно преобладал элемент музыкальный, и почти за каждым столом можно было слышать специальные термины, употребительные в нашем искусстве». Петр Ильич с самого учреждения «пятикопеечных» принадлежал к постоянным их посетителям.