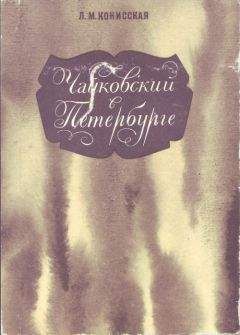Вот как пишет об этом товарищ Петра Ильича — Ларош:
«Видя необыкновенное рвение своего ученика и. быть может, судя о процессе его работы по той чудовищной легкости, с которой работал сам, Рубинштейн менее и менее стеснялся размерами задач. Но по мере того как возрастали требования профессора, трудолюбие ученика становилось отчаяннее, одаренный здоровым юношеским сном и любивший выспаться, Петр Ильич высиживал напролет целые ночи и утром тащил только что оконченную,, едва высохшую партитуру к своему ненасытному профессору».
Был и такой случай, о котором даже сам Рубинштейн рассказывал с веселым изумлением. Учащимся задали контрапунктические вариации на данную тему. Профессор, зная прилежание своего ученика, ждал, что Чайковский принесет один или два десятка этих вариаций. Как же он был поражен, когда Петр Ильич подал их… двести!
Кроме непосредственной работы над консерваторскими лекциями и заданиями Петр Ильич играл в ученическом оркестре консерватории, который организовал Рубинштейн.
Одно время Чайковский «довольно сносно играл на флейте, — вспоминал Ларош. — Он был учеником знаменитого Чиарди… Я помню ученический вечер в присутствии Клары Шуман, на котором Петр Ильич вместе с другими тремя учениками играл квартет Кулау для 4–х флейт».
Эти концерты были, если можно так сказать, любимым детищем Антона Григорьевича. А так как «могучая» личность директора консерватории внушала ученикам «безмерную любовь, смешанную с немалой дозой страха», то и концерты эти пользовались большой популярностью. В 1863 году они перешли из зала Благородного собрания (Невский проспект, д. 15, где теперь кинотеатр «Баррикада») в Городскую думу (сейчас там помещается центральная железнодорожная билетная касса). «Ученические вечера по вторникам привлекали публики еще больше прежнего: в зале было тесно и душно… опоздавшим приходилось стоять. Однако никто не роптал, так как вечера были бесплатными» — так вспоминал А. И. Рубец. Он рассказывал еще, что известный в то время музыкальный критик Цезарь Антонович Кюи относился очень неприязненно ко всему, что не касалось содружества композиторов «Могучей кучки», членом которой он был. Когда только представлялся случай, он старался раскритиковать консерваторию. Члены «Могучей кучки», проникнутые идеями Глинки о национальном характере русской музыки, считали, что в консерватории мало обращают внимания на национальный характер музыкального искусства.
Все время пребывания в консерватории Чайковский старался, чем мог, помогать Рубинштейну: репетировал с неопытными оркестрантами их партии, аккомпанировал хору.
И конечно, он был так же покорен и очарован Рубинштейном, как и все окружавшие его.
Вот как он говорил об этом много лет спустя после окончания консерватории:
«…Я обожал в нем не только великого пианиста, великого композитора, но также человека редкого благородства, откровенного, честного, великодушного, чуждого низким чувствам и пошлости, с умрм ясным и с бесконечной добротой — словом, человека, парящего высоко над общим уровнем человечества. Как учитель, он был несравненен.
…Но какие же были наши отношения? Он был прославленный и великий музыкант, я — скромный ученик… Нас разделяла пропасть. Покидая Консерваторию, я надеялся, что, работая и пробивая понемногу себе дорогу, я могу достигнуть счастья видеть эту пропасть заполненной. Я смел рассчитывать на счастье стать другом Рубинштейна. Этого не случилось. Прошло с тех пор почти 30 лет, но пропасть осталась так же велика…
Теперь иногда я вижу его, всегда с удовольствием, потому что этому необыкновенному человеку достаточно протянуть руку и обратиться к вам с улыбкой, чтобы хотелось пасть к его ногам».
И правда, никогда у Рубинштейна с Чайковским не установилось дружеской близости.
В чувствах Чайковского к Рубинштейну было то обожание, то обида, то восхищение, то раздражение. Чайковского обижало, что в начале его композиторской деятельности именно он, его бывший учитель, не оказал ему поддержки и не помог его продвижению, а был всегда самым суровым судьей его произведений.
Чайковский писал знаменитому пианисту и дирижеру Гансу Бюлову: «Не странно ли, что из двух наиболее знаменитых артистов нашей эпохи Вы, знающий меня лишь с недавних пор, а не Антон Рубинштейн, который был моим учителем, оказали поддержку моей музыке, поддержку столь необходимую и благодетельную».
Однако сказанное выше говорит и о том, что Чайковский, несмотря на разноречивость (и даже противоречивость) своих чувств, на всю жизнь сохранил к Рубинштейну благодарность за ту роль, которую тот сыграл в его музыкальном развитии.
А Рубинштейн — как он относился к своему гениальному ученик?
Признавал он его могучий талант, видел он его победное восхождение на вершину музыкального искусства, на вершину славы?
На праздновании девятой годовщины Петербургской консерватории А. Г. Рубинштейн провозгласил тост, во-первых, за процветание в России музыкального искусства, вспомнил композиторов Глинку, Серова, Даргомыжского и, наконец, сказал о молодом поколении — «о наших молодых композиторах, которые — я смело это заявляю — составят нашу славу и наше музыкальное будущее. Я упомяну прежде всего Чайковского…».
Так наконец‑то сказал учитель о своем ученике в 1871 году.
А спустя еще восемнадцать лет Рубинштейн говорил так:
«…Петербургская консерватория дала России ряд чрезвычайно сильных талантов…
…Из питомцев Консерватории самый гениальный — Чайковский…
Ему меньше 50 лет, вероятно, лет 47, а он становится общеевропейской величиной. Он, я думаю, дошел теперь до своего апогея. Я не думаю, чтобы он пошел дальше».
Сказаны были эти слова, которых, к счастью, никогда не узнал Чайковский, когда еще впереди было создание «Пиковой дамы», «Щелкунчика» и Шестой симфонии! Рубинштейн не оказался прозорливым. Чайковский «пошел дальше»!
Нельзя было не уделить внимания отношениям этих двух великих людей. Не надо забывать, что эти отношения занимали большое место в жизни Петра Ильича и что Петербург и Антон Рубинштейн были в его мыслях всегда тесно связаны.
Однако вернемся к нашему рассказу. Посмотрим, где и как формируются вкусы и взгляды Чайковского.
Будучи учеником консерватории, он занимался и у первоклассного органиста Петропавловской лютеранской церкви профессора Генриха Штиля.
Таинственный полумрак церкви, торжественное звучание великолепного инструмента — все это привлекало тогда юного музыканта, но, надо заметить, так и осталось увлечением юности. Никогда Чайковский не писал для органа и только раз включил этот инструмент в финал своей симфонии «Манфред».