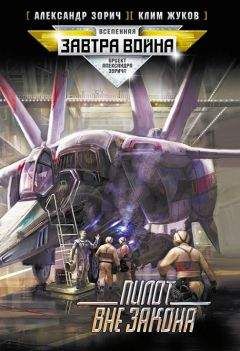Она испортит все! Замочит! Все будет пахнуть ванной! А ведь в этой гостинице все так опрятно и благообразно!
Нервически потея, Василиса метнулась к своему банному халату с красивой лошадкой на груди.
Не нашла его. По-щенячьи завертелась, глядя на окружающее ее пенное буйство взглядом загнанной лисички.
Наконец она придумала, что делать! И обмотала вокруг груди широкое банное полотенце.
Ловко свернула мокрые волосы в бублик на затылке.
Широко распахнула дверь в коридор.
И принялась закидывать все прибывающую и прибывающую пену назад, в свой номер, при помощи ресторанного меню в твердой ламинированной оболочке.
От ее энергичных и одновременно неловких движений полотенце развязалось и упало на красно-зеленый ворс ковровой дорожки.
Василиса принялась вновь наматывать полотенце, пока из соседнего номера изливались ставшие уже привычными звуки итальянской оперы – на сей раз голос был не "живым", а явно записанным, из музыкального центра.
За этими завораживающе-мягкими звуками – вкупе с напряженным гудением компрессора под ванной – Василиса не услышала, как бесшумно открылась соседская дверь.
И как загадочный русский господин, высокий блондин с неподвижным правильным лицом, смотрит со смесью холодной заинтересованности, злорадства и иронии во взоре на ее комические хлопоты, на ее пеноборенье.
Блондину хватило нескольких секунд, чтобы оценить великолепное физическое развитие молодой девушки, русалочью длину ее волос (волосы тоже в пучке не удержались) и детскую нежность, а также младенческую розовость ее не тронутой целлюлитом попы.
"С нее бы картины писать... с купальщицами", – подумал блондин и столь же бесшумно закрыл дверь. Ему не хотелось смущать глупышку.
– Извините, это вы все время поете? – спросила у соседа Василиса, возвращаясь с ленивой послеобеденной прогулки.
Не то чтобы ей был неясен ответ. Скорее хотелось поговорить по-русски с живым человеческим существом. А тут – представилась такая возможность, сосед тоже откуда-то возвращался. (Возможно, с такой же послеобеденной прогулки – жизнь людей, отрезанных обстоятельствами от работы, семьи и друзей быстро превращается в изнуряющее своим однообразием сибаритство.)
– Да, это я пою, – с деланным смущением ответствовал правильный блондин. – А что, мешаю?
– Нет! Нет! Просто... просто вы так здорово это делаете... Поэтому мне интересно было посмотреть, что за звезда сцены живет через стену, – честно призналась Василиса. – Мне кажется, когда люди поют, можно понять, какая у них душа...
– Ну и как? Вы поняли? Какая у меня... душа?
Василиса задумалась, припоминая свои смутные интуиции и ощущения. Тем временем ее левая рука нашаривала в кармане электронный ключ-карту от гостиничного номера. Ключ был выполнен, конечно же, в виде подковы.
– Ну... У вас... Душа... Она... ну... разная. Иногда светлая, сильная, надежная. А иногда как будто... неверная какая-то... зыбкая... Но может это потому, что вы поете песни, которых я никогда раньше не слышала...
– Это какие же? – блондин озадаченно наморщил высокий бледный лоб. – У меня крайне тривиальный репертуар!
– Ну... На этом языке, который мой переводчик, – Василиса потрогала указательным пальцем горошину переводчика в своем ухе, – распознает как итальянский.
– Делом в том, что я – горячий поклонник итальянской оперы. Вот и пою классический репертуар для тенора.
– Для... чего? – переспросила Василиса, близоруко щурясь.
– Для тенора. Неужто вы и правда не знаете, что значит это слово? – удивился блондин. Он тоже остановился у дверей своего номера. Но заходить не спешил.
– Не знаю... Я – гражданка Большого Мурома... Родилась там... Выросла... Нас тенорам не учили, – смущенно улыбнулась Василиса.
– Так вы действительно муромчанка? – в серых глазах блондина блеснула неожиданно яркая искра живого интереса. – Из Новгорода Златовратного? – блондин вспомнил единственный известный ему топоним.
– Нет, я жила в селе Красноселье, возле Усольска, – сказала Василиса и, прочтя на лице блондина глухое непонимание, зачем-то соврала:
– Это рядом с Новгородом... Совсем недалеко.
– Так значит вот оно что... А я думал, вы любите пение.
– Люблю! Очень люблю!
Блондин замешкался. Переступил с ноги на ногу. И вдруг выпалил.
– А хотите, я вам... сейчас спою?
– Я? Я... хочу. Очень!
– Тогда... Прошу вас, сударушка, в мой номер! Входите, располагайтесь, – блондин закрыл за неловко осторожничающей девушкой дверь. – Да не бойтесь вы! Я вас не обижу! Честное-пречестное слово! Я, между прочим, когда дошкольником был, мечтал в Большой Муром сбежать. И жить там – по заветам предков, без планшетов, массажных кресел и, главное, без ежедневных уроков испанского с роботом-репетитором...
Номер, в котором Василиса оказалась, был побольше ее собственного.
В частности, в нем имелись две полноценных, по-европейски меблированных комнаты – спальня и гостиная (а не одна-единственная спальня, как у нее самой).
В гостиной было более-менее прибрано, не считая початой бутылки анисовой водки с уже знакомыми Василисе ликующими селянами, и двух пустых стаканов, один из которых контрабандой проносил в целомудренную реальность холостяцкого жилья следы алой помады. Впрочем, оба эти стакана хозяин номера поспешил тотчас спрятать, не дожидаясь, пока Василиса их как следует рассмотрит.
Василиса тем временем уселась на край дивана. И сделала глуповато-мечтательное лицо.
Точнее не то чтобы "сделала". Оно сделалось само, как бывало всякий раз, когда Василиса соприкасалась с прекрасным во всем многообразии его форм.
– И что бы вам, сударыня, хотелось прослушать в моем исполнении? – блондин наморщил лоб, в уме перебирая свой, к слову, небогатый репертуар.
– Да что угодно... Я всему буду рада! – искренне воскликнула Василиса, неуверенно откидываясь на мягкие диванные подушки.
Только в обществе блондина она поняла, как сильно соскучилась по человеческому обществу в эти одинокие дни.
И особенно – как сильно она соскучилась по обществу русских людей.
Клоны – они, конечно, милые, добрые и искренние. Но все равно они клоны... Стоит отключить переводчик, и ты вообще не понимаешь ничего. Да и с переводчиком, по большому счету, понимаешь только слова. А то, что стоит за ними – понимаешь от раза к разу.
Ведь переводчик не переводит взгляды. Игнорирует улыбки. И жесты для него тоже ничего не значат. Поэтому клонскую искренность так сложно отличить от нарочитой театральности.