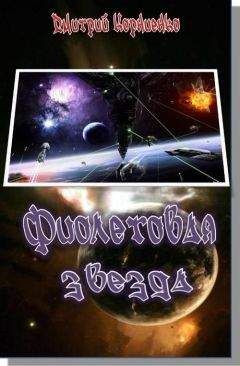стала для него школой, ученики получали знания, которые определяли природу своего существования. Мой ребенок разложил школьные принадлежности, причёсывая организованное пространство. Ему досталось в первый же день. Он убрал запачканного кровью Спота в призрачный рюкзак своего детства.
Сын усвоил правила игры. «Небесные геймеры» резалась в его игры. Желал он узнать любовь в людях и класс озарялся Машиной радугой. Как ароматно пахли её слова, как натурально горели банты в её хроматическом ореоле. Это была первая и последняя страсть в его жизни.
Мы забрались на сопку Бобрового Лога, в маршруте сына значился чужой мир, чуждый коллективный разум. Живя в информационных потоках наземных коммуникаторов, многомерный исследователь не замечал моих заботливых движений. Шаровая молния корабля впаивала мосты и дороги в материнскую плату города.
— Я пытался наладить с тобой отношения, — прокричал юноша из невидимой глазом пустоты.
Пришибленным коконом я покатился с горы, отбивая на выступах привязанности и надежды. Впервые я смотрел на себя сверху — вниз, как на безголосую частицу космических течений. Я нес свой жребий, писал свой сценарий, пускал вход пробившегося на мою поверхность Бога и снова возвращался к любви и свободе. Планета двигались по орбите, человек мог и должен был двигаться против течения жизни.
В глубинах своего детства я находил знаки, расставленные продолжателем моего рода. Я стремился к нему незапятнанной душой далматинца Спота, рвением контактера, горящего желанием снять родовое проклятье.
Мы снова плыли в одной лодке, вращались в энергиях плотной части звезды. Утопленный во тьму шестиугольник пролил серебро на мои плечи, сковал мой дух. Угасавшая органика моего сорванца восполнялась энергией нашего рода, способной вдохновлять и оберегать потомков. В газовых Столпах зарождались новообразованные авроры, в земные чертоги слетались новорожденные дети.
Я затянулся дымком жизни от приговоривших себя к эвтаназии пассажиров поезда. Выносившая меня под сердцем реальность улыбалась энергией снившихся женщин, подступая ко мне ароматом яблок, как задуманному ею Юпитеру. Я сляпал заныканную в шконку личность из слезного блеска фонарей, из освещенных граней моего характера, заменивших родным меня настоящего.
Укрытую туманом станцию усыплял голос диспетчера. «Попугай» с перегрузом-грузом на гоп — топе- топе! Уснули модули и узлы вагонного устройства, затерялся в стрелочной горловине боковой путь. Ночная радуга прилегла на алмазно-серебристую глазурь составов. «Арктические грезы», «Ледниковый экспресс», «Стрела 001» сделали рабочий парк звездным небом.
Биометалл просвечивали человеческие оболочки, затерявшихся на аварийных кроссах, порожних прогонах, тупиках и полустанках. Моя выкуренная из мерзлой плазмы огреха сгорала в кольце радиации, я уходил от сосущей пустоты электронов, от отуплявших лучей жизненных систем, сводивших простейшие импульсы в многомерное одиночество.
Бутылочный остров дрожал в переплавленном олове солнца. Поднятый со дна Отец Камень притянул меня на мерлоны своей изгороди, промыл сделанный из праха топаз в струях питного меда, в кудрях богатырских бород. Стоявшая в «большой воде» ворожея разбросала молевой лес, раскрутила свитую на ходу нить, приляпала заскорузлую, напитанную темнотой глину на все то, голое, что на мне было. Через кротовые норы, через печные заслонки, через сладкую горечь черемухи раскрывалась моя принадлежность этому краю. Я постучался в окна серо-белой метелью, манерой книжных героев, притворился скрипом раздышавшейся плоти, лишенным человеческих полутонов эхом прокуренных залов.
Ворожея сбросила мой мертвый, высосанный из пальца мир с книжной полки, окатила меня, рысака, гастролера, дарами из «ночного золота». Я занял унавоженную грядку, кинза запустила в душу коньячных клопов, выдавливая из узкого горлышка моего нутра генетический мусор из колкой хвои, ложных грибов, непокорных изюбрей и борзых волков. Прыгая через кресты церковного двора, держа за руки духов солей, нагуливая ширь идей, рой искр от буйства орочьей крови, я, недолеток, отвоевал место в избе-читальне. Я подкармливал плачущий мрак листопадом жертвенных романов, воспроизводил на слух ровный стук своего чувства.
Первое утро провозгласило ворожею черной дырой, железным монстром. Обернутая через спину туманность чувств была наращенным магнитом, притянувшим всё живое в тончайшей механике космоса. Кто создал её такой, на каких фигурах речи строилась её образность? Я был редевшей в тумане блямбой, плевавшей из жерла осевшей печной чернью чьей-то жизни, ершась и малюя на аспидной доске ужасную девичью красоту.
Во второе утро солнце вперилось в запыленный глянец пруда. Облака ползли с пешей скоростью. Рыбы дюбали мое пресное сердце, прудовики заперли на пять оборотов апатию в свои спирали. Я был не таким как все, я не жил, как по писаному, не удерживал вольных жен, не стрелялся, не привязывался, не искал ровню среди планктона, я не спасался в союзе тухлых яиц, не зимовал в холодных ключах сероводорода. Ворожея поселилась во мне жемчужной слезой, замедлив заложенную в генах смерть моей особи.
В третье утро мы зашли в деревню, сняли шёпот с окон, выпили сахарную брагу на березовом соке под брачные песни ворон. Потрепанные ветром, заговоренные лесом, полуграмотные пугала в камуфляжных панамах не знали, как далеко зашел человек, чтобы не быть живым, похожим на себя. Моя волшебница разгладила виниловый аквамарин звездных крепостей. Там каждый был принужден просить, взывать к помощи прохожего. Там каждый не смел пикнуть и оскалиться на равнодушие, никто не мог похвастать собою. Ворожея грела набухшие соски на теплом чугуне прорванной теплотрассы. Шелест страниц, лай собачьей упряжки вели нас к фабуле оригинальной, белой сказки.
Демониада
Он очнулся в скверно сработанном гробу, подавленный гнётом желтого карлика. В хриплых сюрреалистических снах провозглашался приговор человечеству. Адова лихорадка пришпандорила на место его позвонки под вышитой по рукавам красной рубахой. Его стоявшие бутылками сапоги обошли блошиные трущобы «Мохнатой щели» и свернули на аллею Шлюх. На смотровой площадке «Пастушки облаков» Самагнилов смочил сморщенное от обезвоживания лицо кисеёй туч и принял избавительные конвульсии города, перегруженного важностью театральных представлений. Выгоревшее ядро мышино-серого Инкуба посвящало себя бдению, ища в холодном жжении выхолощенных кукол неизменность живых людских течений.
Выделенный заводом грязно-красный газ фабриковал малые и большие формы забубенного города, натравливая хайло адреналинового зверя на бездыханные тени в бетонной коробке. Дух сходил на гигантские террасы малого космоса, превращал вечные снежники «океана гравитации» в горячий лед преисподней. Запруженные лепестками лаванды и хмеля котлы водопадов принимали жертв виртуальной казни.
На красном сферическом подиуме воплощались Даринка, Грици его нечестивая труппа. Выводок техногенных псов, демонесс антигородов церемониально линчевал прикованную к столбу торговку цветами, возбуждая в её гематомных ягодицах похоть и злость. Боль отзывалась бурлящим увещеванием в костях и суставах, звериная флегма стреляла в коленные чашечки.
Заряженная полуденными неонами река возвращала встревоженных прохожих в запруды