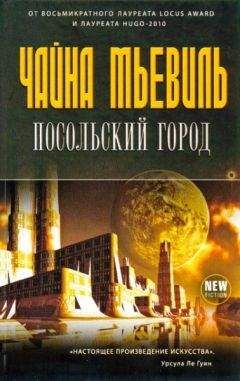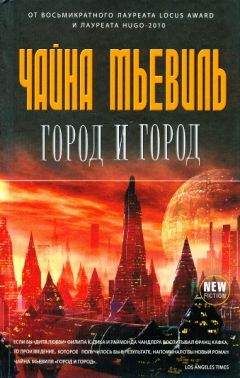— Что происходит? — спросила Илл или Сиб.
— Не переставайте переводить, — потребовала я. — Даже не вздумайте. — Ариекаи выкрикнули что-то все вместе, их голоса слились в устрашающий, мгновенно оборвавшийся хор. Они отвели глаза. — Не останавливайтесь. Я девочка, которая съела, бла-бла-бла. Что вы там говорили мной всё это время? Всё, что, по вашим словам, похоже на меня, и есть я. Вы это уже сделали. Идея в том, чтобы обозначать вещи при помощи других вещей. — Я остановилась перед Испанской Танцовщицей. — Скажите ему его имя. Скажите ему: давным-давно были такие люди, которые носили одежду чёрно-красного цвета, как твои отметины. Испанские танцовщицы. — Я услышала, как ИллСиб произнесли придуманный ими неологизм. Испанская/Танцовщица. — Я не могу произнести твоё имя на Языке, вот я и придумала тебе новое. Испанская Танцовщица. Ты похож на испанскую танцовщицу, поэтому ты — Испанская Танцовщица.
Один за другим, почти без паузы, ариекаи коротко вскрикивали и замолкали. Их глаза прятались. Они начинали покачиваться. Долгое время никто не говорил ни слова.
— Что ты наделала? — прошептала Сиб. — Ты свела их с ума.
— Вот и хорошо, — ответила я. — Мы ведь для них сумасшедшие: мы говорим правду через ложь.
Как в ускоренной съёмке растений, глаза-кораллы Испанской Танцовщицы выпустили бутоны. Он заговорил и выдал два ручейка какой-то чепухи. Остановился, подождал, начал снова. Илл и Сиб и Брен переводили, но мне это было не нужно. Испанская Танцовщица говорил медленно, точно вслушиваясь в каждое своё слово.
Ты та девочка, которая съела. Я Испанская Танцовщица. Я такой, как ты, и я — ты. Кто-то из людей ахнул. Испанец изогнул назад глаза-кораллы и уставился на свой спиной плавник. Два глаза повернулись ко мне. На мне есть отметины. Я — Испанская Танцовщица. Я не сводила с него глаз. Я, как и ты, жду перемен. Испанская Танцовщица — та девочка, которой сделали больно в темноте.
— Да, — прошептала я, и ИллСиб повторили: Шеш/кус, «да».
Другие ариекаи заговорили. Мы — та девочка, которой сделали больно.
Мы были как та девочка…
Мы — та девочка…
— Расскажите им их имена, — сказала я. — Ты ходишь, как одна птица с Терры: ты Утка. У тебя изо рта брызгает жидкость, поэтому ты Креститель. Объясните им, ИллСиб, сможете? Скажите им, объясните им, что город — это сердце…
Я как человек, который капает жидкостью, я — это он…
Ошеломлённые внезапным откровением, они продолжали горланить сравнения, которыми я их называла, до тех пор, пока те не превратились в ложь, и так они сказали правду, которую не могли произнести раньше. Они заговорили метафорами.
— Господи! — сказала Илл.
— Иисус Христос Фаротектон! — сказал Брен.
— Господи! — сказала Сиб.
Ариекаи заговорили друг с другом. Ты — Испанская Танцовщица. Я чуть не заплакала.
— Господи Иисусе, Ависа, ты это сделала. — Брен долго обнимал меня. ИллСиб обнимали меня. Я держалась за них троих. — Ты сделала это. — Мы слушали, как новые ариекаи придумывают друг другу имена, беспрецедентные в прошлом.
Лишь двое несчастных не поняли ничего, несмотря на все мои объяснения, и недоумённо таращились на своих товарищей. Но остальные заговорили по-новому. Я не такой, каким был всегда, сказал нам Испанская Танцовщица.
Много позже, проведя в нашем лагере несколько часов, я взяла чип и медленно, помня о том, сколько времени прошло между дозами, проиграла его. ЭзКел описывали на нём свою одежду. Те двое, которые не переменились — я назвала их Даб и Руфтоп — которые не пережили тот же сдвиг, что и остальные, реагировали на звуки с обычным возбуждением наркоманов.
Но другие — нет. Я смотрела на ариекаев, они — на нас. Вдруг они начали медленно разбредаться в разных направлениях.
— Я ничего не чувствую, — сказал один. — Я, я не…
— Поставь другой, — сказал Брен. ЭзКел тонкими голосами понесли ещё какую-то чепуху. Ариекаи переглядывались.
— Я не… — сказал другой.
Я взяла новый чип, ЭзКел забормотали о важности непрерывных поставок медикаментов, и снова реагировали только двое. Остальные слушали разве что с некоторым любопытством, не больше. Я попробовала другой, и, пока Даб и Руфтоп костенели в неподвижности, новые ариекаи недоумённо попискивали, слушая смехотворные заявления ЭзКела.
— Что случилось? — выдавили ИллСиб. — С ними что-то не так.
Да. Это было свойство нового языка. Нового мышления. Теперь они могли обозначать — и между словом и тем, что оно значило, возникла элизия, зазор, с которым они учились играть. Они получили свободу для осмысления новых идей.
Хохоча, я бросила им чипы, и они стали их перебирать. Поляна, на которой был наш лагерь, наполнилась перекликающимися голосами ЭзКела.
— Мы изменили Язык, — сказала я. — Внезапная перемена — она сработала. — Теперь в нём нет того, что их… отравляло. — Оно и существовало лишь потому, что сам язык, с его раздвоенным единством миромысли, был невозможен: он сам противоречил себе. Стоило языку, мысли и миру разделиться, как это случилось только что, и возбуждающее притяжение невозможного исчезло. Не было больше тайн. Там, где раньше был Язык-загадка, остался просто язык: звуки, обозначающие вещи, сообщающие, что с ними делать и для чего.
Ариекаи перебирали чипы, недоверчиво вслушиваясь в собственное восприятие того, что было на них записано. По крайней мере, я так думаю. Испанская Танцовщица сидел, пригнувшись, но его глаза были обращены ко мне. Быть может, теперь он понимал, как никогда раньше, что звуки, которые издаю я, — это слова. И он слушал.
— Да, — сказала я, — да, — и Испанец заворковал и, синхронизируясь сам с собой, повторил: — Да/да.
Ночь шла, и наши ариекаи стали один за другим уходить в себя и издавать какие-то ужасные звуки. Шум меня беспокоил, но что я могла поделать? Испанская Танцовщица, Утка, Креститель и остальные, кроме Даба и Руфтопа, которые смотрели на них, абсолютно ничего не понимая, впали в состояние, похожее на агонию. Не все визжали или что-то выкрикивали, но все до одного, каждый по-своему, производили впечатление умирающих.
ИллСиб встревожились, но мы с Бреном ничем не выдавали своего удивления: так они избавлялись от старых привычек, срывая их с себя, как струпья. Это была агония смерти и нового рождения. Всё меняется именно сейчас: так я думала, причём очень отчётливо, точно такими словами. Теперь они видят.
Вначале был Язык, в котором звучание каждого слова было изоморфно фрагменту реальности: это не мысль выражала себя, а мир проговаривал себя посредством ариекаев. Язык всегда был в этой ситуации лишним: важен был только мир. Теперь ариекаи учились говорить, а заодно и думать, и это причиняло им страдания.