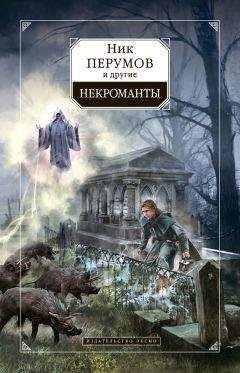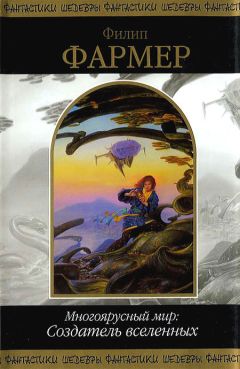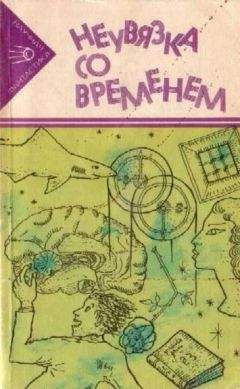– Профиль, – бормотал Старик, разглядывая себя в зеркале. – Какой там профиль, Федор, побойтесь бога! Вам ли о профиле говорить! А собачку-то не забудьте убрать от спальни, девочка, может, пи́сать хочет, а вы…
– Не хочет, – машинально ответил Федор. – У нее там ванная отдельная… Серге-ей Сергеевич!..
Не отрывая восхищенного взгляда от своего отражения, Старик погрозил Федору тонким пальцем.
– Не будь у меня на вас больших планов, вы бы так легко не отделались! А насчет профиля – вы меня не смеши-ите! Ваш профиль – поиск. Детей, преступников, сбежавших собачек, оживших мертвецов… Профиль у него!
И ушел, ворча и поскальзываясь на ошметках жирной новостроечной грязи к поджидавшему его такси.
Федор смотрел ему вслед.
Наступало сороковое утро.
Федор отпустил с облегчением вздохнувшего Ральфа. Осторожно приоткрыл дверь.
Нежить-девица Наталья Беляева-два сидела на кровати, накинув на плечи одеяло. Смотрела на него и болтала, как ребенок, ногами.
Сказала торжественно:
– Я – хочу – есть!
В доме было тепло и солнечно. Свет проникал сквозь желтые в цветочек занавески, ластился к тяжелой дубовой столешнице на кухне, заигрывал с чайными листиками, плавающими в прозрачной чашке, отражался от цветного витража в дверце крошечного сундучка и в конце концов нырял под старый резной буфет. На подоконнике в его лучах грелась азалия в круглом горшке.
Скрипнула кухонная дверь – вошедшей женщине пришлось толкнуть ее плечом, потому что в руках она тащила печатную машинку. Водрузив механическое чудо на стол, женщина ушла и вернулась с тонкой стопкой форматных листов. Затем села и подвинула к себе чашку. Несколько секунд покрутила ее в пальцах, отхлебнула горячий еще чай, заправила лист в машинку и принялась за работу.
Женщина была под стать солнечной кухне. Уже не юная, еще не старая, лет, может, около сорока. Волосы, слегка вьющиеся, оттенка гречишного меда, растрепанной копной лежали на плечах, мешали, и она то и дело заправляла их за уши. Возможно, соседи и шептались, что в ее возрасте как-то несолидно бегать с девической прической, но вслух не говорили. Впрочем, ей шло. Фигура у нее сохранилась тоже девическая. Вот уж по этому поводу соседи прошлись и не раз… Как же, столько лет, а до сих пор не замужем и детей, понятное дело, не родила. Если женщина случайно это слышала, то улыбалась и разводила руками, не сложилось, мол. Конечно, соседям не нужно было знать, что после таких разговоров она возвращалась домой, касалась рукой фотографии, стоявшей на прикроватной тумбочке, и не всегда ее подушка оставалась ночью сухой.
Черты лица у женщины умудрялись быть резкими и мягкими одновременно – четко очерченная линия скул, изогнутые брови и тут же пухлые щечки и округлый, «детский» кончик носа. Морщинки… морщинки – да, они прятались под глазами и на лбу, как скрывались трещинки на деревянной столешнице, и их рисунок говорил о том, что женщина любит (или, по крайней мере, любила) улыбаться, что она часто сводит брови в раздумье и что временами смертельно устает.
Закончив печатать, женщина откинулась на спинку стула, размяла затекшую поясницу и отпила остывшего чаю.
– А на улице-то уже восемь вечера, – пробормотала она, глядя в окошко. – Пора вас покормить.
«Вас» обнаружились на заднем дворе – туда вела дверь прямо из кухни. Женщина вынесла несколько блюдечек и собралась плеснуть в них молока из бутылки.
– Агата! – окликнул ее рыжеволосый паренек лет двенадцати, качавшийся на самодельных качелях во дворике напротив. – Второй Мандарин так и не нашелся?
Та улыбнулась, отрицательно покрутив головой.
– Жаль, он смешной.
– Джереми, опять ты обращаешься к мисс Линделл неподобающим образом. – Из-за угла дома вышла степенная дама, поздоровалась с женщиной и поманила к себе подростка. – Слезай с качелей, дедушка просил сбегать к Петерсонам, он забыл там свой кисет.
Джереми развел руками, как бы говоря, куда уж мне против матери, и, оттолкнувшись посильней, чтобы качнуться в последний разок, на миг взмыл к верхушке дерева, затем спрыгнул на землю и убежал.
Агата хмыкнула.
Первый любопытный нос высунулся из кустов, едва женщина переступила порог, а к моменту, когда молоко было налито, ее уже окружал десяток проголодавшихся слов. В основном, старые знакомцы: Кофта – этакий серый клубочек с ножками и холодным носиком, Малевать – разноцветное нечто, чья шерсть местами торчала в разные стороны, а местами свалялась так, что ее не прочесал бы никакой гребень, Дикая – и впрямь весьма дикое создание в бурых пятнах и полосках, веселый Ай – его так и хотелось потрепать за золотистую шкирку, парочка Смертей, как обычно угольно-черных, с длинными белыми усами. И первый Мандарин – оранжевый, как и положено приличным мандаринам. Второй, его омоним, китайский чиновник, уже пару недель как исчез из поля зрения. Агата подозревала, что гордое слово с длинной шерстью, за которой оно всегда тщательно ухаживало, вычесывая своими коротенькими лапками, кто-то приютил у себя дома, просто за красоту. Хотя держать у себя слова считалось дурным тоном, вон их сколько по улицам шастает (то ли дело кошки, звери привилегированные). Да и вряд ли бы удалось. Слова были излишне свободолюбивы и редко задерживались рядом с людьми. Впрочем, молоко они любили. Даже однажды забредшее к Агате Молоко от молока не отказалось.
К Агате слова, похоже, были привязаны. У нее во дворе всегда вертелось несколько неприкаянных чудиков. Она привечала всех и не боялась даже Смертей, от которых шарахались остальные. Считалось, если Смерть перебежит дорогу – к беде. От чего именно Смерти были самыми забитыми, пугливыми и вечно голодными созданиями – их гоняли почем зря, швыряли в них палками, раскладывали возле домов стрихнин… Агата плевать хотела на приметы и подкармливала бедолаг.
Оглядев сегодняшнюю ораву, женщина заметила новичков – странным образом в компанию привычных, родных лексем затесалась парочка иностранных. Присмотревшись, Агата решила, что это наречие и глагол, уж больно «обстоятельственным» было первое и активным – второй. Агата вообще неплохо знала речь, а вместе с ней этимологию, семантику, морфологию, орфографию и прочее. В конце концов, она всю жизнь провела за изучением слов.
Она уже собралась уходить, когда на глаза ей попался комок, свернувшийся под кустом шиповника. Агата прищурилась и наклонилась к земле.
– Эй, а ты что у нас такое? – тихонько спросила она.
Комок вздрогнул и открыл маленькие глазенки.
– Ах ты, солнышко, – пробормотала Агата, осторожно протягивая руку и касаясь грязной, свалявшейся шерсти. – Что это у тебя, кровь? – Она чуть раздвинула шерстинки и обнаружила серьезную рану на шее. Взгляд женщины потемнел. – Мерзавцы… Кто же тебя так… Пойдешь со мной, лапушкин?
Она подняла чумазое, раненое слово и, прижав к груди, занесла в дом.
Слово дрожало, но без ропота дало себя вымыть, вычесать и обработать несколько глубоких порезов. От молока оно отказалось, залезло в корзину с бельем и там, свернувшись клубком, уснуло. Не став его тревожить, Агата вернулась к работе, периодически поглядывая, как там найденыш. Тот спал, и ближе к полуночи она тоже отправилась в постель.
Утром солнце бесцеремонно заползло на подушку, помедлив, мазнуло лучом по закрытым векам. Зажмурившись, Агата подумала, что опять неплотно задернула шторы вчера. Так, теперь потянуться, выгнуть спину, открыть глаз. Пока один. Закрыть. Открыть оба. И, зевая, наконец-то сесть. О-па, сюрприз.
Вчерашний спасенный лежал на одеяле, у нее в ногах. Когда Агата пошевелилась, поднял голову и уставился на женщину. Взгляд немного настороженный, но скорее любопытный. Она улыбнулась и дотронулась до носа храброго слова. Нос был мокрый и холодный.
– Выздоравливаешь, что ли? Шустрый какой. – Агата улыбнулась. – Ну, тогда пошли завтракать, небось проголодался.
На этот раз от молока слово не отказалось. Вылакало целую миску и выразительно попросило добавки. Похоже, оно действительно быстро восстанавливалось и к вечеру уже прыгало по кухне, то и дело пытаясь подцепить дверцу буфета и проникнуть внутрь.
– Да ты живчик! – воскликнула Агата, в пятый раз вынимая слово из большой супницы, стоявшей на нижней полке, и остановилась. – Живчик… А и впрямь…
Она покрутила слово туда-сюда, изучая мордочку и узор на распушившейся спине. Сегодня при свете дня стало очевидно, что шерстка у найденыша явственно желтого оттенка, с серо-бурыми пятнышками по бокам. Лапки тонкие, изящные и довольно длинный хвост.
– Определенно производное от того же корня, что и жизнь… Но какое-то ты не оформившееся еще слово. Не вижу я ни устоявшегося понятия, ни части речи. А, Живчик?