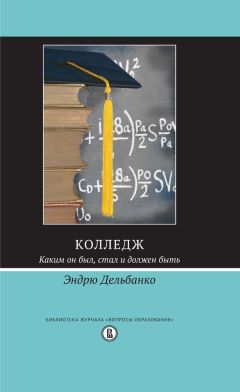В обращении о сборе средств, которое они послали потенциальным спонсорам в Англии, основатели нового колледжа благодарили Бога за то, что «тронул сердце мистера Гарварда» и тем самым подтолкнул других последовать его примеру, и следующим образом объясняли цель, для достижения которой они намереваются использовать книги и денежные средства: «развивать ученость и передавать ее потомкам». Ученость, которую они имели в виду, среди прочего, касалась богословских знаний. По милости Провидения, как бы они, наверное, выразились, единственной книгой из библиотеки Джона Гарварда, сохранившейся после пожара, произошедшего в XVIII веке, был трактат «Христианская война»[61].
Но было бы ошибкой представлять первые американские колледжи как семинарии, посвященные изучению одной лишь догматики и церковного учения. Менее половины выпускников Гарварда в XVII веке в итоге становились священниками, и изучение логики и этики, не только христианской, но и классической, а также арифметики и геометрии занимало значительную долю времени студентов[62]. Еще в одном раннем обращении о сборе средств, на этот раз специально для библиотеки Гарварда, перечислялись необходимые книги по «юриспруденции, физике, философии и математике», при этом наряду с «Градом Божьим» Блаженного Августина и «Наставлениями в христианской вере» Кальвина библиотека включала в себя «Разговоры запросто» Эразма Роттердамского и даже непристойные древнеримские комедии Плавта[63]. Одним словом, американский колледж с самого начала задумывался не как узкоцерковное заведение, а ставил перед собой более широкие цели, как выразился историк Сэмюэл Элиот Морисон, по «гармоничному развитию тела и души, а также интеллекта», для того чтобы воспитать человека, склонного к «единству, учтивости и общественному служению».
Конечно, религия имела первостепенную важность. Изучение Библии означало умение толковать слово Божье, и это была непростая задача, учитывая, что в том, что у христиан называется Ветхим Заветом, Бог говорит через тени («типы» или umbra) истин, еще не данных в откровениях, а в Новом Завете – через притчи и пророчества, требующие компетентной интерпретации. Но не вся божественная истина содержалась в Библии. Бог также выражал свою карающую или милостивую волю посредством исторических событий (паломничеств, священных войн) и природных явлений (наводнений, землетрясений, засухи). И он даровал всем людям способность получать удовольствие от природных свидетельств своего сверхъестественного могущества, таких как небесный хоровод солнца, луны и звезд, симметричная красота растений и деревьев или рябь от идеальных кругов на спокойной воде, когда в нее брошен камень. Бог наделил природный мир тем, что Джонатан Эдвардс (Йель, выпуск 1729 года, назначен президентом Принстона в 1758 году) называл «красотами, которые нас радуют, хотя мы и не можем сказать, почему» – как, например, когда «нам доставляет удовольствие созерцать цвет фиалок, но мы не знаем, какая тайная упорядоченность или гармония рождает это удовольствие в наших умах»[64].
В первых американских колледжах от студентов требовалось изучение не только священных текстов и комментариев к ним, но также истории и философии природы – это трехчастное подразделение знания в общих чертах соответствовало сегодняшнему триумвирату гуманитарных, социальных и естественных наук. Колледж стремился быть местом (в более поздней формулировке Ньютона), где «все ветви знания связаны вместе, потому что предмет знания теснейшим образом един сам в себе, будучи деянием и творением Господним». Его предметом был, по словам Эдвардса, «университет вещей», в котором сохранилось корневое значение слова «университет»: собирание всего знания в единое целое. До последней трети XIX века это усилие по собиранию того, что Фредерик Барнард (в честь которого назван женский колледж в моем университете) называл «прекрасными истинами, которые должны быть прочитаны в творениях Господних», оставалось официальной целью американского колледжа[65].
Сегодня со словом «междисциплинарный» носятся на каждой академической конференции и ему поются хвалы в отчете каждого декана, но на самом деле большинство наших академических заведений гораздо менее междисциплинарны, чем их аналоги в прошлом. В первых американских колледжах, поскольку все исследования велись в рамках единого изучения божественного разума, границ между «областями» и «дисциплинами» не существовало. «Не бывает такого, чтобы у религии была одна истина, у математики – другая, а у физики и искусства – третья, – как это сформулировал один выпускник Гарварда (выпуск 1825 года), – есть только одна истина, как есть один Бог»[66].
Однако эта мечта о том, что сегодня назвали бы «непротиворечивостью» (consilience), не исчерпывает смысла идеи колледжа. Для пуритан, по мнению Морисона,
университетское обучение без жизни в колледже ничего не стоило, и самый скромный постоянный репетитор считался более подходящим учителем, чем самый выдающийся приглашенный лектор. Книжное знание можно было получить через лекции и книги, но только через совместные занятия и споры, еду и питьё, игры и молитвы, принятые у членов одного и того же коллегиального сообщества, в тесной и постоянной связи с друг с другом и преподавателями молодые люди получали бесценный дар – характер.
Даже в те дни, когда Морисон это написал (приблизительно 75 лет назад), он намеренно хотел показаться старомодным. Когда автомобили стали рядовым явлением, он по-прежнему любил ездить на лошади из своего дома в Бейкон Хилл в Гарвард, где привязывал лошадь к столбу и шел преподавать прямо в сапогах для верховой езды. И даже когда «колледж старых времен», как его иногда называют историки, уступил место современному университету, апелляция к характеру сохранилась в официальных заявлениях о миссии учебных заведений. В 1886 году президент-основатель Университета Джонса Хопкинса, занимающегося главным образом передовой наукой, в котором студенты поначалу отсутствовали, настаивал, что он не должен быть «просто местом для развития знания или приобретения учености, но всегда будет местом развития личности»[67].
Сегодня утверждение о том, что колледж должен заниматься воспитанием характера, покажется нам пережитком других эпох и другого мира. К тому же, характер – слово с запутанной историей. Оно использовалось как синоним не только честности, но и стойкости, например, когда нобелевский лауреат Артур Льюис при вступлении в должность канцлера Университета Гайаны говорил о характере как о решимости «снова и снова заниматься одним и тем же, пока другие развлекаются, заставлять себя переходить от простого к сложному, слушать критику и использовать ее, отбрасывать свой собственный труд и начинать все сначала»[68].
Порой это слово приобретало оскорбительные коннотации. К началу XX века апелляция к характеру стала плохо скрываемым способом отделить образцового протестантского джентльмена от предположительного выскочки и хапуги, в особенности от нахального еврея, постучавшегося в двери колледжа. В годы обучения в колледже самого Морисона президент Гарварда Эббот Лоуренс Лоуэлл предложил ввести «персональную оценку характера руководителями приемной комиссии», чтобы сдержать «опасный рост процента евреев» (верхний этаж в общежитии стал именоваться «жидовским пиком»)[69]. И даже при отсутствии открытого ханжества суждения о «характере» сводятся к тому, насколько уютно судья чувствует себя рядом с тем, кого он судит. В письме к Лоуэллу выпускник Гарварда судья Лернид Хэнд поставил под сомнение план президента по отсечению нежелательных элементов: «Если бы кто-нибудь мог изобрести надежный тест для характера, – писал Хэнд, – это, возможно, было бы весьма полезно. Я сомневаюсь в том, что он способен на что-то, кроме выявления формальных и очевидных преступных наклонностей. При отсутствии такого теста студентов, по моему мнению, следует оценивать по их учебе, сколь бы неудовлетворительными ни были такие тесты…»[70]. Если «молодые расы», как их тогда иногда называли, обгоняют «старые» по оценкам и баллам, так тому и быть: их следует впустить в колледж.
Тем не менее, несмотря на историю ошибок и злоупотреблений, в сформулированном Ньюменом тезисе, что образование «подразумевает воздействие на нашу умственную природу и формирование характера», есть нечто достойное сохранения[71]. Колледж должен заботиться не столько о тренировке ума для той или иной функциональной задачи, сколько о характере – современном смягченном варианте того, что основатели наших первых колледжей назвали бы сердцем или душой. Хотя мы можем не соглашаться с атрибутами добродетели, закрепленными в библейских заповедях или же в понятиях Просвещения (Джефферсон полагал, что цель образования – производить граждан, способных к «умеренной свободе»), студенты по-прежнему поступают в колледж не до конца сформировавшимися социальными существами и их все еще можно отучить от чистого эгоизма и направить к жизни, полной сострадания в широком смысле этого слова и гражданской ответственности.