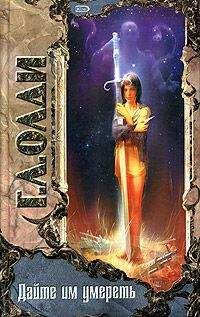Театр, где он работал – этнографического направления, в нем все объемное, настоящее, реалистичной фактуры. Находился в старинном здании бывшего Дома культуры, построенного еще в тридцатые годы. Казалось, основательный Дом этот с полукругом выступающего фасада как бы накапливал… аккумулировал время в гулкой пустоте зала, прохладном мраморе фойе, в глубине оркестровой ямы, во множестве декорационных, «трюмах», подвалах, мастерских. Дед часто брал ее с собой, она привыкла к ощущению предстоящего события, это чувствовалось в особом напряжении, присутствовало в работе всех, кто занят в подготовке нового спектакля.
От нее словно протянута ниточка в то время, где она, совсем маленькой девочкой, пробиралась темным проходом за задником на сцене. Наступала на сваленные там неприятно-мягкие свертки одежды сцены, как на серых утопленников.
Или вот… дедушка сейчас начнет крутить барабан с тросом… в этом есть что-то от морского дела (занавес открывался и закрывался вручную). Он раздвинет тяжелую черную портьеру ночи, взовьет ослепительно-яркий парус света, идущего с небес. На палубе-сцене, рассекающей тьму, легко затанцуют, порхая и перелетая, красивые феи в чем-то белоснежно-воздушном. А она замрет в темном царстве кулис. Золотистая пыльца будет окружать облаком, осыпаться с этих неземных танцующих созданий, с их трепещущих пачек, бриллиантовых корон.
Было время, когда каждый новый сезон начинался с тревог, что театр закроют, финансирование прекратят, здание под видом аренды оккупируют коммерсанты. В экс-ДК несколько залов, танцклассы, где занимались студии детского творческого центра, разные кружки, в том числе аэробики, бальных и эстрадных танцев. Да, и закрывали порой – то на ремонт, то на перепланировку, то из-за судебных разборок… Но какие бы суперпроекты, якобы сулящие баснословные прибыли, ни намечались, их словно бы засасывало время, накопившееся в этом Доме. И вот никаких захватчиков-арендаторов, все по-прежнему. Один вновь назначенный директор театра, чтобы удержать работящих мужиков, когда простои, безденежье, организовал здесь же, в мастерских при театре, небольшое производство – и можно подработать. Делали стенды или, как говорили, «модули» для часто сменяющихся экспозиций в одном выставочном комплексе, что неподалеку (и которым заведовала жена директора театра).
Надя приходила к деду в мастерскую, засиживалась допоздна, там же делала уроки: ей выделили уголок. У нее была своя собственная Тайна. В каком-нибудь пустующем танцклассе, если повезет и никто не занимается, она одна среди зеркал, продлевающих и множащих ее отражение, научившись включать установленную аппаратуру, врубала на полную мощь дыхание, огонь, ветер, стихию! В черной коробочке кассеты – для нее целая история, которую она расшифровывала, переводила в движения. За толстыми стенами не слышна ее музыка, никому не видны дикие шаманские пляски. От них плавилось тело в неистовом ритме, она ощущала страсть каждой клеточкой. Кружилась, бешено вращалась, входила в транс, танцуя до самозабвения, летя среди зеркал, сбросив ненужную одежду, закрывшись ото всех, уносясь в свои иные пределы. Музыка не оставляла в одиночестве, помогала заново обрести себя, сметая все ненужное, слабое, унылое.
Может, именно в театре ей открылась иная, оборотная сторона вещей? Ведь если все дети мира извне, из зала, видели чудесное представление: например, в сказке про Емелю его печка сама разъезжает по сцене, – то она, Надя, сама сидела внутри этой печки с рабочим сцены Геннадием. Он катил, толкал громоздкое сооружение, согнувшись в три погибели, матерясь на чем свет стоит. На сцене актеры пытались направить их движение куда надо… Царь, генерал, царские дочки, «народ» – тоже ругались, но это не было слышно детям в зале. Геннадию ничего не видно в этом танке, он постоянно сносил то дворец, то перила, то царский трон, едва не выезжая к обрыву авансцены.
У нее же была роль Противовеса.
Первый раз Геннадий сгреб ее в охапку, почти закинул в печку (а это металлический каркас, он накрыт белым чехлом, разукрашенным под кирпичи, кое-где укреплен фанерой, сверху приделана труба). Она видела, как торопились, сверлили и свинчивали чудо-печь в самый канун новогодних праздников. Колеса горе-конструкторы сместили к центру. Эдакая махина, да еще с солидным дядей-Емелей в валенках, тулупе, с балалайкой – при лихих маневрах начинала крениться набок, грозя и вовсе перевернуться. Разумеется, вот-вот уже выход… вернее, выезд – а это только сейчас обнаружилось! И, как тут же придумал Геннадий, если она будет сидеть впереди, это хоть немного уравновесит заднюю, чересчур утяжеленную часть. Наде тогда было не до технических деталей. Врезалось в память: они в чем-то тесном, замкнутом… несутся к разверзшейся бездне, к катастрофе. Но в тот раз (и еще несколько) все обходилось как-то, а потом переделали как надо.
А еще она какое-то время была в одном спектакле Веснянкой: по замыслу режиссера символом Зари Перестройки. В финале этого действа, в ярко-красном сарафанчике, вся увитая березовыми веточками, в венке, медленно ступала по поднятым вверх и сцепленным рукам актеров. Замирающим сердцем чувствовала тепло живой, сплетенной из ладоней тропинки. Луч выхватывал только ее, за границей света ловила чью-то руку, что должна поддержать, ведь она вознесена высоко, направлялась к черной пропасти зала, откуда дыхание невидимых зрителей опаляло ее лицо. И те, кто стоял и поддерживал ее, все были в алых одеждах. И алое солнце поднималось над Россией, наведенное на задник прожектором с алым светофильтром. Но так было, пока позволял ее вес. Потом пришла другая девочка, дочь одного из актеров.
Когда возвращалась домой, ощущала на губах горький вкус золотой пыльцы. Очень хотелось пить, сразу несколько чашек чая. А в душе такое… не расскажешь никому, не поделишься, в каком сказочном запределье она побывала… Особенно ей нравилась сказка про змея Химу.
[Химу]
На земле Химу всегда шла война. Шла задолго до того, как отец Химу, Белоголовый Старец, сбросил его в мир со своей вершины вместе с другими братьями. Эту войну вели бесчисленные, пронизывающие все, духи гор, рек, каждой долины, рощи, скалы, ручейка… Долгое время пролежал Химу большим замшелым камнем, наполовину вросшим в берег ручья. Ледяные струи приятно холодили его бок, весело скакали по другим мелким валунишкам, которых Химу даже и не думал признавать за своих родственников. Из своей крепкой каменной памяти Химу знал, какая на его земле идет война. Окружающие жалкие валунишки подсмеивались над ним, побрякивая между собой о том, что настанет время – и он рассыплется на куски, подобно им. Но Химу знал: ему уготована иная судьба. Голова его отца спрятана за облаками, обдуваема ветрами, так что и в своем каменном теле он слышал поющие на скалистых утесах вихри, понимал их голоса. Ведь ручей брал свое начало в самом чреве исполина-отца и был их неразрывной связью. Запах и вкус снеговой воды, скатившейся от дальних родных седин, тревожил его каждую весну еще несбывшимся.