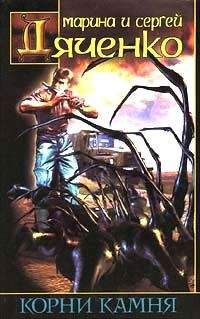На экране появился служебный вход, даже окна Раманова кабинета попали в кадр тоже; мне надо в театр, подумал он устало. Ведь, наверное, все уже все знают… Легче, не надо сообщать… Но все равно надо в театр, я должен убедить их… что не конец, что все еще вернется…
Спектакль жив, подумал он с внезапным ожесточением. Спектакль-то жив, он просто… он просто спит. Никто не помешает ему, Ковичу, ежемесячно устраивать прогоны… чтобы поддержать… чтобы…
Мумия, сказал трезвый внутренний голос. Как бы живой, как бы мертвый… Спектакль, лишенный зрителя, не живет, как не живет рыба на берегу… Оболочка останется – но выветрится суть. Увянет, ссохнется…
– Четвертый канал приносит зрителям свои извинения, – бархатным голосом сообщил диктор на фоне все тех же скалящихся масок. – По техническим причинам вместо анонсированной в передаче «Портал» информации состоится обзорная экскурсия по театрам столицы. О том, когда выйдет в эфир анонсированная передача, будет объявлено дополнительно…
Рекламный ролик.
Он все еще тупо смотрел в экран, когда за спиной его заговорила Павла.
– Добрый день, господин Мырель, – Павла говорила бесстрастно, и эта бесстрастность беспокоила Рамана все больше и больше. – Да, я знаю… Кассета готова… Почему?..
Некоторое время она молчала, слушая вибрирующий в трубке голос. Раман переключал каналы. Первый, одиннадцатый, двадцать восьмой…
– …был глубок, и…
Он успел переключить канал прежде, чем Павла, стоящая спиной к экрану, успела увидеть спокойное, слегка рассеянное лицо Тритана Тодина, глядевшее с фотографии в траурной рамке. И прежде, чем она успела расслышать стандартную формулировку некролога.
Ты был мерзавцем, егерь Тодин, думал Раман, ты был лгуном, но ты умер так, что я чувствую себя виноватым…
Когда Павла заговорила снова, Раман вздрогнул. И испуганно посмотрел ей в лицо.
– Но господин Мырель, – говорила Павла каким-то лязгающим, как железная машинка, голосом. – Это действительно ВЕЛИКИЙ спектакль. Я не понимаю до конца мотивов… комиссии по нравственности… но передачи-то никто не закрывал?! Ее ждут, это будет…
Пауза. Павла молчит, в трубке дрожит, срывается, вибрирует голос.
– Напрасно, господин Мырель. Нет, при чем тут мое мнение… Господин Тодин?..
Она запнулась. Раман подавил в себе желание вырвать трубку из ее рук и закричать Раздолбежу в уши все, какие знал, ругательства.
– Господин Тодин со мной согласен, – сказала Павла тем самым мертвым голосом, который бросал Раман в дрожь. – Потом. До свидания.
И она положила трубку и обернулась к Раману – но в этот момент телефон затрезвонил снова, Павла механически ответила, с какой-то даже улыбкой:
– Алло…
И протянула трубку Раману:
– Это девушка. Она плачет.
* * *
Все газеты вышли с маленьким, в рамочке, очень вежливым сообщением службы информации Триглавца.
После короткого сообщения о том, что спектакль «Первая ночь» в театре Психологической драмы признан неприемлемым для общественной нравственности, шли пространные извинения перед гражданами города. Охраняющая глава, говорилось в сообщении, осознает всю напряженность ситуации и моральный ущерб, наносимый городу и в особенности театру – однако ущерб от публичной демонстрации спектакля обещает быть несравнимо большим. Ведущие психиатры страны сошлись во мнении: «Первая ночь» подлежит закрытию как наносящая однозначный вред психическому здоровью и нравственной установке зрителя.
После разговора с плачущей Лицей Раман нашел в себе силы собраться и поехать в театр; что он там говорил – вспомнить не представлялось возможным, он очнулся уже в такси, мокрый и липкий от пота, с неутихающей болью в груди, и в левой руке, и, кажется, во всем теле. Он не хотел походить на побитую собаку – но при виде неубранных декораций «Первой ночи» у него снова случился сердечный приступ, а потом провал в памяти, а очнулся он стоящим на сцене перед притихшими людьми в партере, он что-то им говорил, и, даже, кажется, усмехался.
Он знал, что мягкие утешения в устах главрежа напугают его людей больше, чем любая истерика – и потому с первых же слов пообещал страшные кары на головы отступников, буде такие отыщутся, отступников, которые испугаются, или опустят руки, перестанут, в зависимости от профессии, содержать в готовности декорации либо ежедневно повторять свои роли, либо вообще позволят себе упадок, депрессию, хныканье… Он говорил жестко, злобно, кажется, даже брызгая слюной, это отвратительно, но он ничего не мог с собой поделать.
Умом он понимал, что больше всех в поддержке нуждается Лица, и для пользы дела следовало бы доказать ей верность. Он понимал это – но сил не было. Потом был какой-то водоворот, люди стояли вокруг, молча, как на похоронах, он поцеловал Лицу в лоб, пообещал, что все будет хорошо, потом у него случился новый провал в памяти, и он очнулся с телефонной трубкой у рта, причем с кем идет разговор – не мог вспомнить, и о чем шла речь – тоже…
Потом был салон такси и удивленный, чуть испуганный водитель: «Вы – тот самый Кович?!»
Потом была череда чиновников, знакомых и незнакомых, администраторов разных рангов, и все они глядели на него с сочувствием. И все они с первых слов знали, зачем он пришел, и сокрушенно качали головами: повторную комиссию назначать нецелесообразно, может быть, вы изыщите возможность изменить концепцию спектакля? Так, чтобы он оставался в рамках санитарно-психиатрических норм?
Когда он говорил о женщине по имени Павла Нимробец, которую хотят убить в Пещере, в глазах собеседников появлялся страх. Кович представлялся им первой жертвой собственного спектакля – вот что бывает, когда заигрывают с недозволенным. Когда насилуют человеческую природу – вот он, великий режиссер современности, доведенный до жалкого состояния навязчивой идеей ужасов Пещеры…
Отчаявшись, он заявился в Триглавец и потребовал встречи с координатором Охраняющей главы.
Его принял второй сокоординатор.
Невысокий, круглоголовый, в таких же круглых очках и с круглыми плечами человек дал ему выговориться. Он слушал и молчал едва ли не полчаса, а когда Раман, схватившись за сердце, умолк – со вздохом заговорил в ответ.
Да, ему приходилось заниматься делом Рамана Ковича и Павлы Нимробец – в связи с тем давним случаем, когда сааг трижды нападал на одну и ту же сарну, было принципиально важно выяснить, нет ли со стороны хищника превышения нормы агрессивности… Нет, конечно, превышения не было. Вся та история была просто набором несчастных случайностей – и, опять-таки к несчастью, сказалась на психике девушки Павлы. Именно с тех пор начались ее беспокойство, фобии… Болезнь вылилась в острое расстройство, девушка была госпитализирована, но, к сожалению, однозначных результатов лечение не принесло… Снова-таки к сожалению, те события оставили след на психике самого Ковича – отсюда эта болезненная страсть копаться в подробностях мира Пещеры, а, поскольку Кович, без сомнения, талантлив, эта навязчивая идея вылилась в спектакль, порождение болезненной фантазии, провоцирующее нервные срывы у соприкоснувшихся с ним людей, взять хотя бы этого бедного парня, актера Валя, который покончил с собой… Нет, он, сокоординатор, никого ни в чем не обвиняет. Но он врач, он сталкивался с подобными ситуациями, он поклонник творчества Рамана Ковича, а потому советует ему, как друг: лучшее, что можно сейчас сделать – провести месяц в горном санатории, наедине с природой и под наблюдением опытного доктора. Возможно, медикаменты… но это не обязательно, это по решению лечащего врача. Что до Павлы Нимробец… судя по словам Ковича, девушка переживает период нового обострения болезни, возможно, ее снова придется госпитализировать, но и это, опять-таки, не смертельно, современная медицина располагает…