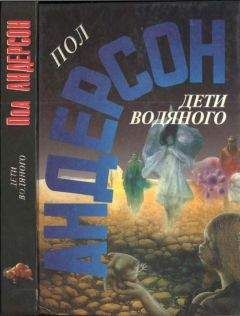Затем появились другие дети, прибежавшие с соседних ферм, и все слилось в бесконечную расплывчатую массу, состоящую из беготни, молодых, легких, стучащих сердец и истошных оглушительных воплей. Они преследовали его. Собаки лаяли, а брошенные камни со стуком отскакивали от его боков, оставляя небольшие порезы.
— Противный старикашка тролль, уползай назад в свою вонючую нору!
— Пожалуйста! — шептал он. — Пожалуйста.
Добравшись до старой тропы, он едва узнал ее.
Жара и пыль слепили; дорога плясала перед глазами, мир вокруг раскачивался и кружился, а шум в ушах заглушал детские визги. Собаки скакали вокруг, уверенные в своей безнаказанности, словно зная о боли, слабости и одиночестве, стоном рвущихся из его горла, и кидались с воем, кусая его за хвост и распухшие ноги.
Вскоре Руго уже не мог идти дальше. Склон был слишком крут; воля, подгонявшая его, иссякла. Он сел, подтянул колени и хвост, закрыв голову руками; от навалившейся горячей, ревущей, кружащейся слепоты он почти не осознавал, что дети продолжают швырять в него камни, колотят его и орут.
Ночь, дождь, плач западного ветра, прохладная и влажная мягкость травы, дрожащее небольшое пламя; печальные глаза отца, дорогое утраченное лицо матери… Приди ко мне, мама, — из ночи, ветра и дождя, из леса, который они вырубили, из глубины лет и смутных воспоминаний, из царства теней и снов. Приди, возьми меня на руки и отнеси домой…
Через некоторое время им надоело, и они ушли: кто вернулся обратно, а кто побрел выше — в холмы за ягодами. Руго сидел не шевелясь, ощущая, как по капле возвращаются силы и осознание боли.
Внутри горело и пульсировало: зазубренные стрелы проносились по нервам, в горле пересохло, и глубоко в брюхе, как дикий зверь, засел голод. А над головой в горячей дымке плыло солнце, заливая все вокруг жаром и наполняя воздух раскаленным сухим сиянием.
Глаза он открыл не скоро. Веки казались шершавыми, запорошенными песком; пейзаж вокруг колыхался, словно мозг его дрожал от жары. Руго заметил человека, наблюдавшего за ним.
Он отпрянул, закрыл лицо рукой: Но человек стоял не двигаясь, попыхивая старой поцарапанной трубкой. На нем была поношенная одежда, на плечах — котомка.
— Круто с тобой обошлись, не так ли, старина? — спросил он. Голос его был ласковым. — Вот, держи! — Долговязая фигура склонилась над сжавшимся Руго. — Тебе надо попить!
Руго поднес флягу к губам и выпил жадно, все до дна. Человек оглядел его.
— Ты не так уж изувечен, — заметил он, — только порезы и царапины. Вы, тролли, всегда были крепкими ребятами. Все же дам тебе немного аневрина.
Он выудил из кармана тюбик с желтой мазью и намазал ею раны. Боль ослабла, перешла в теплый зуд, и Руго вздохнул с облегчением.
— Вы очень добры, сэр, — сказал он неуверенно.
— Да нет! Я и так хотел с тобой встретиться. Как теперь себя чувствуешь? Лучше?
Руго кивнул медленно, пытаясь унять оставшуюся дрожь.
— Я в порядке, сэр, — сказал он.
— Не называй меня «сэр»! Многие умерли бы со смеху, услышав это. Однако что с тобой приключилось?
— Я… я хотел еды, сэр, простите. Я х-хотел еды. Но они — он велел мне убираться. Потом появились собаки и дети…
— Детишки иногда бывают весьма жестокими маленькими чудовищами, это точно! Ты можешь идти, старина? Я хотел бы поискать какую-нибудь тень.
Руго поднялся на ноги. Это оказалось легче, чем он ожидал.
— Пожалуйста, не будете ли так добры, я знаю местечко, где есть деревья…
Человек тихо, но образно выругался.
— Так вот что они натворили! Мало того, что они уничтожили целый народ, так нужно было еще и последнего оставшегося лишить мужества и воли! Послушай, ты! Я — Мануэль Джонс, и я ставлю условие: или же ты говоришь со мной, как один свободный бродяга с другим, или же не говоришь вовсе. Теперь пойдем, поищем твои деревья!
Они пошли вверх по тропе молча (если не считать, того, что человек насвистывал под нос непристойную песенку), пересекли ручей и вошли в заросли. И когда Руго улегся в тени, испещренной пятнами света, ему показалось, что он заново родился. Руго вздохнул, дал телу расслабиться, приник к земле, черпая ее древнюю силу.
Человек разжег костер, открыл несколько банок из своей котомки и вывалил их содержимое в котелок. Руго голодным взглядом следил за ним, стыдясь и злясь на себя за урчание в желудке. Мануэль Джонс присел на корточки под деревом, сдвинул шляпу на затылок и заново зажег трубку.
Голубые глаза на обветренном лице смотрели на Руго спокойно, без ненависти и страха.
— Я ждал встречи с тобой, — сказал Мануэль. — Я хотел увидеться с последним из племени, которое смогло построить Храм Отейи.
— Что это такое? — спросил Руго.
— Ты не знаешь?
— Нет, сэр, то есть, извините, мистер Джонс…
— Мануэль. А может, ты забыл?
— Нет, я родился, когда Чужаки охотились за последними из нас… Мануэль, мы всегда спасались бегством. Мне было очень мало лет, когда убили мою мать. Я встретил последнего Таннура — так звался наш род, — когда мне было около двадцати. С тех пор прошло уже почти двести лет. И теперь я — последний.
— Боже! — прошептал Мануэль. — Боже, ну что мы за племя — вырвавшиеся на свободу черти!
— Вы были сильнее, — сказал Руго. — В любом случае это дело далекого прошлого. Те, кто это сделал, мертвы. Некоторые люди хорошо относились ко мне. Один из них спас мне жизнь: убедил других оставить меня в живых. И некоторые из них были ко мне добры.
— Я бы сказал, странная доброта, — пожал плечами Мануэль. — Но, как ты сказал, Руго, это дело прошлое.
Он глубоко затянулся трубкой:
— И все же у вас была великая цивилизация. Не технократичная, как наша, не гуманоидная и недоступная во многом человеческому пониманию, но в ней было свое величие. О, мы свершили кровавое преступление, уничтожив вас, и нам когда-нибудь придется ответить за это.
— Я стар, — сказал Руго. — Я слишком стар для ненависти.
— Но недостаточно стар для одиночества, а? — криво усмехнулся Мануэль. Он замолчал, выпуская в сияющий воздух голубые кольца дыма.
Затем он продолжал задумчиво:
— Конечно, людей можно понять. Они были бедны, обездолены на нашей страдающей от истощения планете; сорок лет несли они сквозь пространство свои надежды, отдавая жизнь кораблям, чтобы дети их смогли долететь — и тут ваш совет запретил им это. Они просто не могли вернуться, а человек никогда не был особенно разборчив в средствах, когда его вела нужда. Люди чувствовали себя одинокими и напуганными, а ваш громадный, ужасный облик только усугубил дело. Поэтому они и дрались. Но им не следовало этого делать так тщательно, ибо все превращалось в чистейшей воды жестокость.