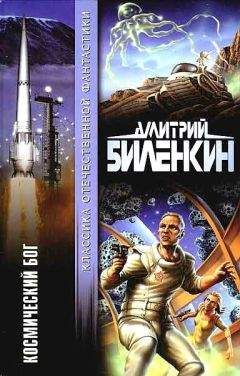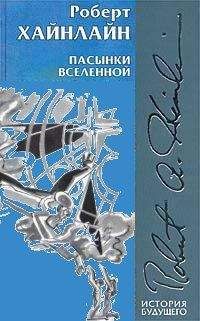И все-таки трусость сдвинула меня на прежнюю дорожку мысли, и я пробормотал с последней надеждой:
— Они умерли. Все они умерли. И похоронены, — прибавил я зачем-то. Так было надежней. — Умерли и похоронены.
— А звезды, — спросил человек за столом. — А звезды — они тоже умерли? А невидимые звезды, сжимающиеся пятнадцать минут по своему времени и миллионы лет по-нашему, — они тоже похоронены? Ленин — умер? Эйнштейн — похоронен? Толстой? Кто же тогда жив? Генерал Франко?
Он ударил по столу двумя кулаками и спросил, перекрывая своим басом звериный вой, рвущийся из-за сетки:
— Чему вы верите, вы, физик? Каким часам? Коллапсирующая звезда существует пятнадцать минут, и она будет светить, когда Солнце не поднимется над земной пустыней! Через миллионы лет! Чему вы верите?
— Я не знаю! — прокричал я в ответ. — Я не ученый! Что вы от меня хотите?
— Чтобы вы поверили.
— Чему?
— Прошлое рядом с настоящим. Во все времена.
— Но его нельзя вернуть!
— Тихо, Егор! — крикнул Гришин.
Кот притих. Гришин выбрался из-за стола и утвердился, как монумент, посреди комнаты.
— Вернуть прошлое нельзя. Можно узнать о прошлом, что я и предлагаю. Это вполне безопасно. С вами аварий не случится, вы здоровы. Решайтесь, наконец, или уходите. Я тоже пойду — искать другого.
— А-а… — У меня вдруг вырвалось какое-то лихое восклицание вроде “А-а-а!” или “У-у-ух!”. Такое бывает, когда несешься с горы на тяжелых лыжах, накрепко примотанных к йогам ремнями.
— А-а! Даем слалом во времени! Даем, Ромуальд Петрович!
— Даем! — Гришин хлопнул меня по плечу. Это было здорово сделано — я плюхнулся в кресло, а он стоял надо мной и улыбался во все лицо…. Перед “спуском во Время” я попил кофе. Ромуальд Петрович принес кофейник и маленькие чашечки, но я попросил стакан, намешал сахару и стал пить, а Гришин объяснял в это время, какие блокировки меня страхуют.
— Два браслета-индуктора, Дима. Основной и дублер. Сигнал возврата подается от двух часов, переделанных из шахматных, — вот они, тикают. Завожу и ставлю полчаса. Хватит? Там время сжимается…
— Давайте побольше, — сказал я.
Как мне стало хорошо! Я преодолел страх, я почувствовал себя таким значительным и мужественным! Подумаешь — набить морду хулиганам или скатиться с крутого Афонина оврага — чепуха, детские забавы. Я сидел этаким космонавтом перед стартом, пил крепкий кофе и думал, как будет потом, и что, наконец, есть такое дело, и можно себя испытать всерьез. А Гришин здорово волновался, хотя тоже не показывал виду. Когда я уже сидел в кресле с браслетами на руках, он принес кота Ваську и, тиская его в ручищах, сказал, что кот только вчера уходил в прошлое.
— Как видите, благополучно… Ну, счастливо, Дима. Вы храбрый человек.
Я не смог улыбнуться ему — трусил. Я ощущал на запястьях теплые браслеты, и вдруг они исчезли, ощущение жизни исчезло, я задохнулся, как будто получил удар в солнечное сплетение… Молот времени колотил меня в самое сердце, и в смертном ужасе я подумал, что забыл спросить, как выглядит тот, кто ушел во Время.
…Чужой. Запах чужой. Небывалый.
Лежу. Кричит птица, ближе, ближе. Слетела с гнезда. Запах чужой, ужасный. Лежу в больших листьях. Один. Со лба капает.
Страшно.
Ветер дует от них. Они подходят, много их. Чужие. Идут тихо, как Большезубый. Вышли, огляделись. Идут. Прячутся от Великого Огня. Идут. По краю болота. Запах сжимает мой живот.
Идет охотник. Еще идет охотник. Еще. Их много. Но пальцев на руке больше. Несут рубила. Как мы. Но запах чужой.
Ужасный. Вода капает со лба, пахнет, но ветер дует от них.
Не учуют.
Вожак прыгает, бьет рубилом. Убил змею. Запах очень сильный. Боятся. Боятся змей, как мы. Запах сжимает мой живот.
Проходят. Запаха нет. Ползу за ними. Лук волочу по листьям.
Чужого надо убить. Чужих надо убить. Чужие страшнее змей, ночи и Большезубых. Они пахнут не так, как мы.
Надо убить. Одному нельзя, их много. Свои не слышат меня.
Далеко.
Догнал. Чужие сидят, притаились. Оглядываются. Великий Огонь покрыл их пятнами. Ложатся. Вожак сидит, оглядывается, нюхает. Чужой. Мы так не нюхаем. Мы поднимаем голову.
Я лежу в болоте. Отрываю пиявок. Лук лежит на сухих листьях. Чужой нюхает ветер, в бороде рыбьи кости. Борода как ночной ветер. Черная борода была у Паа. Отцы убили Паа, он что-то делал так, что по стене бегали лесные. Маленькие: брат Большерогий, но маленький. Он бежал и не бежал. На стене. И братья Носатые на стене. Отцы убили Паа.
Сказали — это страшно. Из пещеры ушли. Оставили лесным пещеру.
Трещит. Чернобородый чужой ложится. По лесу идут Носатые братья. Идут пить воду к реке. Проходят так, как сделал Паа на стене. Впереди большой-большой-большой. Лес трещит.
Я ползу назад, в маленькую реку. Бегу по воде. Запах чужих бежит за мной. Чужих надо убить. Они чужие — поэтому. Вот пещера. Отцы сидят за камнями. Держат луки, оглядываются. Бегу по камням. Вижу, что матери и сестры скрываются в пещере. Мне хорошо. Они — свои, они меня слышат.
То, что я говорю внутри себя, когда мы близко. Старик Киха и старшие матери бьют маленьких, гонят в пещеру. Маленький брат Заа отрывает пиявку от моей ноги, ест. Наша мать гонит его в пещеру.
Беру стрелы. Женщины закрывают вход камнями. Становится темно, как перед смертью Великого Огня. Сестра Тим трогает меня, страх проходит. Я говорю: “Сейчас нельзя, мы бежим убивать”. — “Можно”. Она наклоняется, я хватаю ее крепко. Мать Кии бьет меня ногой. Бьет Тим. Мужчину бы я убил рубилом, но Кии тронуть не могу. Тим воет в углу, как самка Большезубого. Дети визжат. Старик Киха шипит, как змея: “Молчите! Чужие!” Бежим по воде. Там, где вода падает, выбегаем в лес.
Пкаап-кап с братьями бежит дальше, к болоту. Пкаап-кап — шестипалый. Он очень могуч. Мать Кии не дала мужчинам его убить. Шестипалого надо было убить. Хорошо, что его не убили.
Ветер приносит запах чужих. Выбегаем из больших листьев — нас очень-очень мврго. Выбегаем. Чужие вскакивают, кричат визгливо, как птицы. Быстро бегут, рубила на плечах.
Очень быстрые ноги у чужих. Но Юти кричит: “И-ха-а-а!” Много стрел. Вожака догоняют стрелы, он бежит. Другие падают. Вожак дергается, вынимает из себя стрелу. Смотрит.
Падает. Борода поднялась к Великому Огню. “И-и-ха-ха-а!” — кричит Юти.
Я бегу и заношу рубило над вожаком и вижу, как — наши бьют и кромсают рубилами, но что-то сдавливает мою грудь, я как со стороны и сквозь мглу вижу серое рубило, которое падает и висит над чернобородым, а он воет, как сова, и вот уже все, вот, вот…
…Я сидел в мягком, я дрожал и задыхался от лютой боли в груди и бедрах. Это было кресло, это снова было теперь, и на руках браслеты, а горло сжимает галстук. Что-то прыгало в груди, как серый камень. Извне доносился голос, знакомый голос и знакомый запах, но я не разбирал ничего.