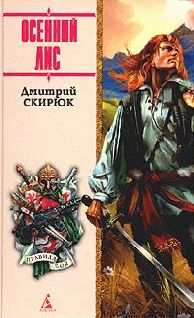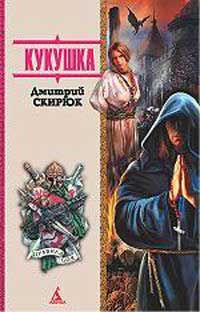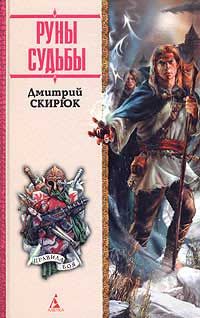- Разглядели бы, тогда б не спрашивали... да...
- Да разбе он летал? - поскрёб в затылке Хосе-Фернандес. - Летать могут только ангелы. И птицы. Не походил же он на ангела! Наверное, скачался на берёбке с дереба, бсего-то и делоб. Берёбку надо поискать...
Верёвки, тем не менее, не нашли. Зато нашли те самые два башмака и шляпу. И шляпа и башмаки оказались чудовищно тяжёлыми. Мануэль залез ладонью внутрь, пощупал, взрезал ножом и отодрал подкладку.
- Глядите-ка, святой отец! - позвал он, поворачивая башмак к лунному свету. - Да тут свинец внутри! Фунта по два в каждом, не меньше.
Все по очереди подержали ботинок в руках.
- Бесовщина какая-то... Зачем это ему было нужно?
- Надо бы девку спытать, - сказал Киппер. - Вдруг она чего расскажет.
- Расскажет, дожидайтесь, - буркнул Санчес. - Вон какие зенки бесстыжие. Упрямая... Я эту породу знаю. Помню, у меня была такая. Мы тогда стояли лагерем в северной Гранаде...
- Дурак ты, Алехандро. Дурак, и сын дурака.
- Это почему это я - дурак?
- В пыточных подвалах все говорят. - Родригес сплюнул на снег, достал из кармана жгут кручёного табака, с отвращением посмотрел на него и засунул обратно. Вздохнул. - Нет, но Анхель, Анхель... Кто ж мог его так зацепить? Мануэль! - окликнул он арекбузира. - А ты точно уверен, что не промахнулся?
- Уверен, - мрачно отозвался тот.
- А если ты... ну, в смысле, если это ты Анхеля...
- Альфонсо, ты с ума сошёл: не мог же я пробить навылет эту халупу!
Родригес почесал в затылке.
- Да, пожалуй, что не мог...
Солдаты ещё раз обыскали хижину, не нашли в ней для себя ничего ценного, разломали пару лежаков, связали из них носилки, уложили сверху труп
Анхеля, взгромоздили всё это дело на плечи и двинулись прочь. Тащить на верёвке пленницу доверили Михелю. Заночевать в проклятой хижине даже никто и не помыслил.
Ночь расцвела горячим заревом пожара.
А когда они под утро добрались до первого распадка и разбили лагерь, то погасло и оно.
* * *
В этом городе цвет, и свет фонарей,
Всё готовит на подвиг, на войну.
В этом месяце дождь ложится на снег
Грохот барабана рождает тишину...
Злобный дождь оплакивал кончину февраля и моросил, почти не переставая. Нудно моросил - сопливо, холодно и грязно. Три дня пути спутались для Ялки в серую кудель разбитых ног,затёкших рук, холодной сырости, солдатской ругани и пустоты. В первую очередь - пустоты. Сил сдерживать её у Ялки больше не было. Тот, ради кого она жила и заставляла себя жить, был уничтожен. Неизбежное свершилось. Пустота проклюнулась, прорвала оболочку, вылезла, как майская гусеница, ощеривая чёрные крючки зубов, и принялась въедаться в душу, как в зелёный, только-только распустившийся листок.
Такое уже было. Сначала - мама, потом - семья...
Потом - она сама.
Потом был травник, рядом с которым Ялка снова захотела жить.
Но теперь всё было кончено. Совсем. Сплющенный талер из ствола испанской аркебузы убил не только травника и белокурого солдата. Он убил и её.
Только умирала Ялка в сто раз медленней и в десять раз больней. Поэтому ей было всё равно, что с нею будет и куда её ведут. Она шла в никуда. Губы её шевелились.
Здесь луна решает,
какой звезде сегодня стоит упасть.
Здесь мои глаза не видят, чем она больна.
Моё тело - уже не моё,
только жалкая часть,
Жалкая надежда.
Но во мне всегда жила - Истерика!
Какое дикое слово, какая игра,
Какая истерика...
Холодные слова слагались в строки.
Никогда она не билась, не срывалась, не кричала, даже если было плохо и ужасно. Ялкина истерика была другая. Она словно бы проваливалась в бездну, в ту ужасную немую бездну за спиной, дыхание которой Ялка ощущала и раньше, и теперь, и с каждым днём - всё сильней. На несколько коротких месяцев дыра эта как будто бы закрылась пониманием любви и радости обретения друга, но теперь боль вновь душила и давила, ударяла вглубь. Ялка плакала почти непрерывно, глухо и беззвучно, как она всегда привыкла плакать, чтоб не разбудить ночами сводных братьев и сестёр...
Истерика, но я владею собой,
Просто устала, просто устала,
Но я владею собой.
Какое дикое слово, слово - истерика!
Она сидела неподвижно, запертая в комнате, водила пальцем по стеклу, глядела в зарешеченное узкое окно на проносящиеся в небе облака, на жёлтые гирлянды фонарей, которые поселяне зажгли, бахвалясь перед гостями столичной придумкой. Но солдат не интересовали фонари. Солдат интересовала выпивка: и немец, и четверо испанцев вот уже два вечера пьянствовали, заливая боль от потери друга.
- Ты ничего не понимаешь! - кричал внизу набравшийся Родригес, обращаясь, вероятно, к лысому кабатчику. - Ничего не понимаешь! Ты знаешь, какой он был парень? Лихой парень! Да! Он был bravo, наш Анхель, me pelo alba, если вру. Он мог нож метнуть на сорок пять шагов, о-го-го! И никогда не промахивался. Вот ты, фламандская задница, ты можешь бросить что-нибудь не на сорок пять шагов, а хотя бы на сорок? Можешь? А?
- Мне, право, трудно, сравнивать, - вежливо картавил тот в ответ, - но вероятно, я и вправду бы не смог. Зато вы обратили внимание, господин солдат, какие у нас фонари на улицах? Это всё проделано моими трудами, моими усилиями.
- Что? Фонари? Какие фонари? При чём тут фонари?.. О-ох, Анхель, Анхель... Даже поругаться теперь как следует не с кем... Эй, как там тебя? Тащи ещё вина!
А Ялка плакала. Совсем не оттого, что умер кто-то, могущий метнуть нож на сорок пять шагов. Жуга, наверное, мог бы бросить и дальше. Ей это было неважно,
И ругаться ей не хотелось.
Она ничего не помнила из того, что произошло после пожара на поляне и до того момента, когда они пришли в корчму с серпом и молотом на вывеске. Только то, что было до, и то, что стало после. Её развязали, дали обсушиться и поесть. Но к еде она почти не притронулась. Вернее, она попробовала что-то съесть, но её тут же вырвало. Она лишь выпила воды, и теперь сидела и вспоминала.
Что со мной? Может, это волненье?
Не чувствую ритма в висках,
Словно это сердце отказало мне во всём.
Где-то между камней
Город держит в тисках,
А усталый ветер воет только о своем...
В тот вечер, когда Ялка потеряла всё, включая самоё себя, Жуга был задумчив и угрюм. В последнее время, как успела заметить девушка, он часто впадал в такое состояние, подолгу сидел за столом, обдумывая что-то, рылся в ворохе бумаг, исписывал страна цы в толстой тетради, разбрасывал костяшки рун. Молчал. Как будто знал, что с ним произойдёт. Она привыкла, что в такие дни его не надо беспокоить, поэтому занялась хозяйством: прибралась в доме, сгоняла Фрица за водой, сварила целый горшок гречневой каши с мясом и уселась вязать. Вязание, однако, не заладилось. В этот раз даже ей казалось, что какое-то нехорошее ожидание разливается в воздухе. И хотя в доме было жарко натоплено, Ялка всё время ёжилась от неприятного холодка. Есть травник не стал, только выпил пару кружек травяного отвара на меду.