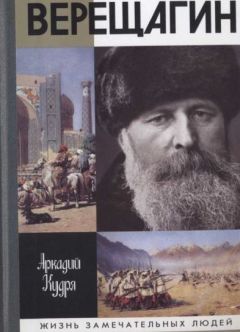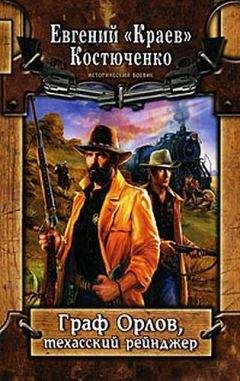Автор этих строк, замечу, тоже очень любит по нескольку раз произносить одно и то же слово: решительное «нет», например, он редко выпускает в одиночку, а чаще небольшой очередью: спросят, скажем, его в троллейбусе, будет ли он выходить на следующей остановке; в компании, не выпьет ли еще рюмочку – автор всегда говорит: «Нет, нет!» или «Нет, нет, нет!» – чем дольше он повторяет это «нет», тем меньше в нем твердости, когда автор говорит «нет» четыре раза, то это уже почти «да», – слову «да», кстати, он тоже редко позволяет сиротствовать, но здесь предел – четыре повторения. Всем этим я хочу сказать, что автор тоже нервный, азартный человек и поэтому как нельзя лучше понимает Верещагина, именно в смысле нервозности и азартности истолковавшего троекратный выкрик профессора Красильникова.
Намеченную тему Верещагин взял бы так или иначе, потому что она ему нравилась, – он пришел, собственно, не столько посоветоваться насчет выбора, сколько сообщить о выборе уже сделанном, но тем не менее ему, конечно, приятно было видеть, как горячо профессор одобряет его решение, как темпераментно кричит: «Брать, брать и еще раз – брать!», как энергично размахивает длинным мундштуком арабской работы, а также полами драного халата, сквозь дыры в котором можно было увидеть новые шерстяные кальсоны ручной вязки, – посмотрев на эти кальсоны, Верещагин деликатно заметил, что пора бы уже надеть более легкое исподнее. «Почему?» – удивился Красильников. «Потому что на дворе весна», – «казал Верещагин. «Какое это имеет значение!» – сказал Красильников.
Никто из приходящих к нему не мог предугадать, в каком виде профессор возникнет на пороге. Он мог появиться в черном смокинге и галстуке бабочкой, а мог и в застиранных, довоенного покроя трусах. Иногда он приходил на лекцию в выгоревших спортивных шароварах, но нежданный поздний гость мог застать его в замшевом охотничьем костюме с хлыстом у пояса, ножнами и кинжалом в них, хотя ни на какую охоту Красильников никогда не ходил, да и вообще никуда не собирался, – впуская гостя, он кричал: «Только пять минут! Слышите? – шесть! Я уже выпил кефир!», после чего, не давая гостю вымолвить слова, подробно объяснял, что традиционный стакан кефира, в результате многолетнего предпостельного употребления, стал безотказным условно-рефлекторным сигналом и действует на его организм как сильнейшее снотворное. Это разъяснение занимало не меньше трех-четырех минут, так что едва гость открывал рот, чтоб сообщить цель визита, как шесть обусловленных минут истекало и Красильников бесстыдно засыпал на глазах у пришедшего в своем элегантном охотничьем костюме – кинжал бесполезно покоился в ножнах, хлыст свисал до пола; гостю ничего не оставалось как уйти, впрочем, люди с развитым музыкальным слухом предпочитали задержаться на несколько минут, чтоб послушать замечательный красильниковский храп, о котором и по всему миру ходили легенды, – собственно, звуки, издаваемые Красильниковым во сне, нельзя было назвать храпом: нежностью и красотой они напоминали стон очень юной девушки, никогда не певшей со сцены домов культуры популярные песни, в тот единственный в ее жизни час, когда она, забыв все на свете слова, начинает выражать свои чувства без них.
«Вы обессмертите свое имя! – прокричал Красильников, размахивая арабским мундштуком, в котором дымилась французская сигарета. – Если, конечно, у вас получится. Но даже если у вас не получится, я все равно буду рад, что вы попробовали». – «У меня получится, – пообещал Верещагин и похвастался: – Я – везучий».
У него не было никаких оснований так говорить, он просто хотел ободрить своего учителя, но Красильников как раз наоборот – очень огорчился. «Это же совсем плохо, – сказал он. – Вы говорите правду или шутите? – И потащил Верещагина к окну. – Давайте сюда, – говорил он, – здесь посветлее. Успокойтесь, это совсем не страшно».
Он стал больно ощупывать верещагинские скулы и череп, бормоча при этом, что в свое время прошел курс физиогномики и френологии у лучших представителей этих наук и сейчас все скажет точно. «Ваш зенит – в закате, – объявил он, заламывая Верещагину веко. – Не кричите, это совсем не больно. До заката вы будете неудачником, и это к счастью. Не дай бог, вы были бы везучим, тогда вы – тьфу, тогда вам грош цена!»
Из окна Верещагину была видна улица в сером асфальте и маленькая белокурая девочка, бредущая вдоль урн. Ее сопровождал огромный чуткий дог, преграждавший путь девочке каждый раз, когда та слишком близко подходила к обочине, и с мягкой непреклонностью оттиравший ее обратно на середину тротуара. Он охранял девочку, был приставлен к ней родителями и держал подальше от опасной проезжей части дороги, – видно, что-то понимал в машинах. Зеваки толпой шли за этой парой, громко выражая свой интерес и удивление и нисколько не печалясь тем, что портят ребенку судьбу: девочки, растущие под восклицания, вырастают в капризных женщин, а мужчины, рожденные ими, истеричны и рано лысеют.
«Из вашего окна я всегда вижу одну и ту же собаку», – сказал Верещагин. «Удачливость – это забвение божье, – отозвался Красильников. – Для каждого дела Бог посылает на землю двоих. Ему нужен только один, но Бог думает: «Мало ли что…» – и посылает двоих. Он следит за их рождением и детством, а потом выбирает одного, лучшего… Второго же отстраняет, отбраковывает, вычеркивает из списка, и этот вычеркнутый начинает жить легкой жизнью, он становится счастливчиком, все называют его удачником и везунчиком… Вы видели на заводских свалках ржавые бракованные колеса? С ними люди поступили как Бог с худшими из нас. Конечно, колесо на свалке может думать, что ему повезло: его товарищи трясутся по ухабам, изнашиваются, стонут от перегрузок, тогда как оно нежится на солнце и только медленно ржавеет, ожидая переплавки. С ним не случается аварий… Счастливчику Бог не разрешает страдать, потому что другой делает это лучше».
«Вы сидели когда-нибудь в печке? – спросил Верещагин. – Если просидеть в запертой печке хоть один час, сразу поймешь – избранник ты божий или кто другой».
«Я в печке не сидел, – сказал Красильников. – Зато я знаю на собственном опыте, что такое невозможность переодеться. Меня держали взаперти семь лет в одной и той же телогрейке».
«Не могу видеть, как эти болваны портят собаку, – возмутился Верещагин. – Пойду разгоню их». Он вышел на улицу и стал громко кричать на толпу, сопровождавшую дога с девочкой. Люди удивились внезапному молодому человеку и его гневу, они подумали, что молодой человек приходится родственником девочке и хозяином догу, испугались и разошлись, а профессор Красильников, наблюдая за всем этим из окна, одобрительно кивал и переодевался – ему уже опротивел туркменский халат, он потягивал на себя лосины и жокейскую курточку, он не мог долго находиться в одной и той же одежде, он начинал задыхаться без перемен.