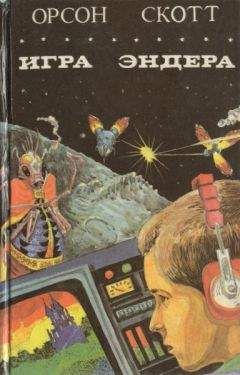Наступила тишина, и свинки остановились. Наконец Хьюмэн поднялся с земли.
— Теперь мы боимся людей еще больше, — сказал он Глашатаю. — Я хотел бы, чтобы вы никогда не появлялись в нашем лесу.
Раздался громкий голос Уанды:
— Как вы можете говорить так, после того как вы убили моего отца!
Хьюмэн посмотрел на нее изумленно, не зная, что ответить. Миро обнял Уанду за плечи. И в тишине Глашатай заговорил:
— Вы обещали мне, что вы ответите на все мои вопросы. Я повторяю свой вопрос: как вы делаете из дерева дома, и луки, и стрелы, и эти дубинки. Мы рассказали вам, как это делаем мы; расскажите, как еще это можно делать, как вы это делаете.
— Один из братьев отдает себя, — сказал Хьюмэн. — Я же говорил. Мы говорим древнему брату, что нам нужно, мы показываем ему форму, и он отдает себя.
— Можем мы увидеть, как это происходит? — спросил Эндер.
Хьюмэн оглядел остальных свинок.
— Ты хочешь, чтобы мы попросили брата отдать себя, чтобы вы увидели? Но нам пока не нужен новый дом, не нужен будет еще много лет, и у нас хватает стрел…
— Покажи ему!
Миро обернулся, и все остальные за ним, и они увидели Листоеда, который вышел из леса. Он вышел на середину поляны; он не смотрел на них и говорил, как глашатай, не беспокоясь, слышит ли его кто-нибудь. Он говорил на «языке жен», и Миро понимал лишь отрывки.
— Что он говорит? — прошептал Глашатай.
Все еще сидя на корточках рядом с ним, Миро переводил, как мог.
— Видимо, он ходил к женам, и они велели сделать все, что вы попросите. Но это не так просто, говорит он… Я не знаю этих слов… Что-то о том, что все они умирают. Или, по крайней мере, братья все равно умирают. Посмотрите на них, никто не боится.
— Я не знаю, на что похож их страх, — сказал Глашатай. — Я — совсем не знаю этот народ.
— Я тоже, — сказал Миро. — Но я должен отдать вам должное — за полчаса вы вызвали здесь больший переполох, чем я мог увидеть за все эти годы.
— Это мой врожденный дар, — усмехнулся Глашатай. — Давай договоримся. Я никому не рассказываю о вашей «сомнительной деятельности», а ты никому ни скажешь, кто я.
— Проще простого, — согласился Миро. — Я все равно не верю в это.
Речь Листоеда закончилась, и он сразу направился к дому и исчез внутри.
— Мы попросим одного из древних братьев, — сказал Хьюмэн. — Так сказали жены.
Вот как получилось, что Глашатай и стоявшие рядом с ним Миро и Уанда наблюдали, как свинки демонстрируют чудо более убедительное, чем любое из тех, благодаря которым старый Густо и Сида получили свой титул Ос Венерадос.
Свинки выстроились вокруг толстого старого дерева на краю поляны. Затем они все по одному забрались на дерево и начали колотить по нему дубинками. Вскоре все они были на дереве, распевая и выстукивая сложные ритмы.
— «Язык деревьев», — прошептала Уанда.
Всего через несколько минут дерево заметно наклонилось. Тут же примерно половина свинок соскочила на землю, и они начали толкать его, так, чтобы оно упало на открытое место. Остальные стали колотить по стволу еще сильнее и петь еще громче.
Одна за другой большие ветви дерева начали отваливаться. Свинки сразу же подбирали их и уносили с того места, куда должно было упасть дерево. Хьюмэн принес одну Глашатаю, который осторожно взял ее и показал Миро и Уанде. Тот конец, которым ветка прикреплялась к дереву, был совершенно гладким. Он не был плоским, поверхность была слегка волнистой. Но не было зазубрин, потеков сока, ничего, что могло бы указать на то, что ветка была оторвана силой. Миро коснулся ее пальцем: она была холодной и гладкой, словно мрамор.
Наконец от дерева остался один обнаженный величественный ствол; солнце ярко освещало бледные пятна там, где недавно были ветви. Пение достигло высшей точки, затем стихло. Дерево наклонилось и начало плавное и грациозное падение; земля содрогнулась, и стало тихо.
Хьюмэн подошел к упавшему дереву, тихо запел и начал гладить ствол. Под его руками кора постепенно расходилась; трещина продолжилась вверх и вниз по стволу. Свинки взялись за кору и отделили ее от ствола, превратив в две непрерывных полосы. Кору тоже отнесли в сторону.
— Ты когда-нибудь видел, как они используют кору? — спросил Глашатай у Миро.
Миро покачал головой. Он не мог говорить вслух.
Теперь вперед вышел Эрроу. Он провел пальцами вверх и вниз по стволу, как бы точно отмечая длину и толщину одного лука. Миро увидел, как на стволе появились трещинки, которые все расширялись, до тех пор, пока в длинной щели на дереве не остался лук совершенной формы, гладкий и блестящий.
Другие свинки тоже подошли к дереву и продолжали петь и рисовать на стволе разные контуры. Они отходили с дубинками, луками и стрелами, острыми ножами, и тысячами ленточек для плетения корзин. Наконец, когда половина ствола исчезла, они отошли и запели хором. И дерево задрожало и распалось на полдесятка длинных брусьев. Все, дерево было использовано полностью.
Хьюмэн медленно подошел к брусьям, присел возле них и положил руку на ближайший. Он откинул голову назад и начал петь мелодию без слов, которая была грустнее, чем любые звуки, которые Миро когда-либо слышал. Постепенно Миро осознал, что все остальные свинки смотрят на него, чего-то ожидая.
К нему подошел Мандачува.
— Пожалуйста, — мягко сказал он. — Надо, чтобы ты спел для нашего брата.
— Я не знаю, как, — растерялся Миро, чувствуя страх и беспомощность.
— Он отдал свою жизнь, — сказал Мандачува, — чтобы ответить на твой вопрос.
«Чтобы ответить на мой вопрос и породить тысячу новых», — сказал мысленно Миро. Но он вышел вперед, присел рядом с Хьюмэном, положил руку на тот же холодный и гладкий брус, откинул голову и дал волю своему голосу. Сначала слабо и робко, не зная, какую мелодию петь; но вскоре он понял, почему песня не имеет мелодии, почувствовал смерть дерева под рукой, и голос его стал громким и сильным, мучительным диссонансом накладываясь на голос Хьюмэна, который оплакивал смерть дерева и благодарил его за жертву, обещал обернуть его смерть на благо племени, на благо братьев, и жен, и детей, для того, чтобы все они жили и процветали. Таков был смысл песни, и смысл смерти дерева, и когда песня кончилась, Миро наклонился, коснулся лбом дерева, и произнес слова величайшего благоговения, те же, что он сказал над трупом Либо пять лет назад на склоне холма.
ХЬЮМЭН: Почему другие люди никогда не приходят к нам?
МИРО: Только нам разрешается проходить сквозь ворота.
ХЬЮМЭН: А почему они не перелезут через ограду?
МИРО: А вы когда-нибудь трогали ее? (Хьюмэн не отвечает.) Это очень больно. А если перелезть, то все тело будет страшно болеть, все сразу.
ХЬЮМЭН: Это глупо. Разве трава не растет с обеих сторон?
— Уанда Кенхатта Фигейра Мукумби, Записи диалогов, 103:0:1970:1:1:5 * * *
Спустя всего час после рассвета мэр Боскинья поднялась по ступеням личного кабинета епископа Перегрино в соборе. Дон Кристао и дона Криста были уже там, лица их были серьезны. Епископ же выглядел довольным собой. Ему всегда нравилось собирать политическую и религиозную верхушку Милагре под своей крышей. Неважно, что именно Боскинья созвала собрание и она же предложила провести его в соборе, потому что только у нее был скиммер. Перегрино нравилось ощущать себя в своем роде хозяином Лузитанской колонии. Правда, к концу этого собрания все должны будут понять, что никто из них уже не властен ни над чем.
Боскинья приветствовала всех. Но она не села в предложенное ей кресло. Вместо этого она села около личного терминала епископа и вызвала программу, которую она подготовила. В воздухе над терминалом появились несколько слоев крошечных кубиков. В верхнем слое кубиков было совсем мало; в остальных намного больше. Более половины слоев, начиная с самого верхнего, были окрашены в красный цвет, остальные были синими.
— Очень красиво, — развеселился епископ Перегрино.
Боскинья посмотрела на дона Кристао.
— Узнаете эту модель?
Он покачал головой.
— Но я думаю, я знаю, о чем это собрание.
Дона Криста подалась вперед в своем кресле.
— Есть ли безопасное место, где мы можем спрятать то, что нужно сохранить?
Выражение веселья исчезло с лица епископа.
— Я не знаю, о чем это собрание.
Боскинья повернулась на стуле.
— Я была очень молодой, когда меня назначили губернатором колонии Лузитания. Это была большая честь, большое доверие. Я изучала управление городами и социальными системами с детства и хорошо проявила себя во время моей короткой карьеры в Опорто. Но комитет совершенно не заметил, что я уже была подозрительной и скрытной шовинисткой.
— Все мы восхищаемся этими вашими качествами, — сказал епископ Перегрино.