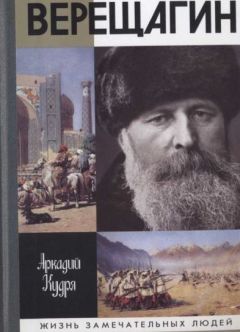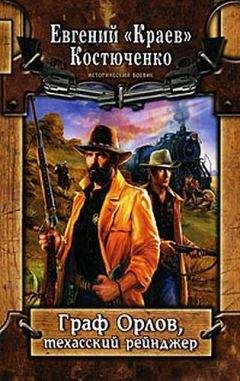Значит, все в порядке, решает он, печь не взорвалась, Кристалл внутри ее растет – от этой мысли, от сознания того, что с каждой секундой Кристалл вызревает все больше и больше, наливается тугим соком, из усилия души превращаясь в вещь, – от этой мысли Верещагин снова начинает ощущать в ладонях теплые ласковые мгновения, а в груди становится совсем горячо, он смеется тихим счастливым смехом, открывает глаза и видит, что парень смотрит на него испуганно.
«Ты не бойся, – успокаивает его Верещагин. – Давай разговаривать дальше». – «Давайте», – соглашается парень, и тогда Верещагин, ласково поглаживая приплывающие в ладони мгновения, начинает говорить о том, что ни одному человеку не должно быть безразлично, с кем продлевать свой род; о художнике, который охотно смешивает зеленую краску с желтой, чтоб получить чудесный оливковый цвет, но никогда не смешает эту зеленую с коричневой, например, потому что знает: получится просто грязь, он никогда не мазнет на зеленое коричневым, он, скорее, руку себе отрубит. «А вы, – закричал Верещагин голосом певца, который пробивал лбом стену, не пробил и после этого сердито запел обиженным голосом, потирая шишку – есть у Верещагина такая песня, ее очень xopoшо исполняет на турецком языке замечательный певец, лучший заочный друг Верещагина, и вот он закричал на парня сердитым и обиженным голосом этого своего лучшего друга. – А вы, – закричал он, – мешаете свои прекрасные гены, не слушаясь законов гармонии, вы женитесь на первой так себе девушке, вы спите с женщиной, с которой должно спать другому, оттого так много рождается гнусных людей с грязным пятном вместо души, вы не слушаетесь инстинктов, которые вам подсказывают: не смешивай свои гены с этой, выйдет грязное пятно, с ней лучше пусть вон тот тип смешается, у них получится красота, а тебе нужно вот с этой, твое зеленое с ее голубым, беги за нею на край света, – голос инстинкта и есть любовь, ей нужно подчиняться и бежать за кем следует, но нет, вы ленивы и предпочитаете тех, кто ближе, вы нетерпеливы и пожираете ту пищу, возле которой застиг вас ваш голод, вы потом страдаете желудком, но говорите: «Зато я сыт», вы рождаете паршивых детей, но говорите: «Зато у меня семья», вы говорите: «Все физиология», – и тискаетесь в подъездах – год, два, три, а потом: «Пора взяться за ум», – говорите и женитесь на девушке, которая ближе других стояла к вам в танцевальном зале, вы плодите грязные пятна, и вот – вырождается род человеческий, потому что вы говорите: «Любви нет, одна физиология».
Верещагин заканчивает свою речь. «Ух ты!» – говорит сильно потрясенный парень. Он смотрит на Верещагина с огромным щенячьим вниманием, не перебивает, вот только «Ух ты!» сказал и уж теперь, конечно, совсем не способен заметить красоту мундштука, которым Верещагин специально вертит перед его носом в большой надежде.
«В какой книжке об этом можно прочитать? – спрашивает он, когда Верещагин разочарованно встает и прячет в карман мундштук. – Я бы такую книжку купил».
«Ишь читатель нашелся! – говорит недовольный Верещагин и идет к остановившемуся пустому троллейбусу. – Прощай, парень. До свидания».
«До свидания, – отвечает парень. – С вами разговаривать, много почерпнешь. А с той девушкой вы уже не встречаетесь? Гены не подошли, да?»
«Еще как подошли, – говорит Верещагин и вздыхает – глубоко и искренне. Он уже стоит на подножке троллейбуса. – Только она меня бросила, парень. – Он снова вздыхает, уже менее натурально. – Во как вышло. Здорово, да? Пока».
«Пока, – кивает парень, но не уходит, наоборот, приближается к троллейбусу вплотную, почти влазит в него, глаза у него удивленные – надо же, как близко к сердцу принял верещагинскую речь. – Это почему же – бросила? – спрашивает он. – Ваши, значит, гены к ее подошли, а ее к вашим – нет? Разве так бывает?»
«У матери ее не подошли гены, – объясняет Верещагин. Он уже внутри троллейбуса и разговаривает с парнем высунув наружу голову. – Матерям, знаешь, наплевать на дочкины гены. Им лишь бы порядок был. Зять почему-то всегда интересует их больше, чем внуки».
Он едва успевает убрать голову – гильотина троллейбусных дверей смыкается. Поехали.
Большую муху, которая уцепилась в тамбурное стекло, другой раздавил бы или, по крайней мере, согнал – ни для чего, просто чтоб утвердить свое право сильнейшего на этом участке пространства, а Верещагин – нет. Он смотрит на муху дружески, почти с любовью и несколько вопросительно, как бы ожидая каких-то разъяснений. Но муха не чувствует себя обязанной исповедоваться перед Верещагиным. Она вообще никому и ничем не обязана, и ей никто ничем не обязан – она на редкость свободна. Она даже не вздрагивает крылышками, когда троллейбус трогается, не испытывает ни волнения, ни тревоги, хотя уезжает из родных мест навсегда. На какой-то остановке она вылетит и будет жить вдали от своих братьев и сестер, не замечая их отсутствия, не обнаружив перемены, ностальгия ее не замучит, привязанностей у нее нет, воспоминаний тоже – эх, до чего же свободная муха!
Дружеская симпатия к ней сменяется у Верещагина неприязненным чувством, он уже не любит муху; может быть, отчасти из зависти к ее свободе, даже замахивается – и не убивает, конечно, но все-таки сгоняет, – теперь стекло совершенно свободно от чьего-либо присутствия и сквозь него можно беспрепятственно смотреть, – Верещагин смотрит и видит: тот самый, только что оставленный парень мчится вдогонку за троллейбусом. Он скачет по асфальту, делает Верещагину знаки – то правой, то левой рукой, и не отстает. Троллейбус набирает скорость, парень тоже набирает. Он бежит даже чуть быстрее троллейбуса, он даже приближается, у него даже хватает сил что-то кричать Верещагину – какой здоровый парень! – но что он кричит? Верещагин показывает пальцами на свои уши, отрицательно мотает головой в том смысле, что не слышит, и тогда парень еще прибавляет ходу, – удивительно, сколько у него резервов! «Ну и резервов у тебя!» – говорит Верещагин вслух.
Никто не слышит. Троллейбус пустой.
А водитель, будто заметил, что за ним гонятся, будто испугался – жмет на газ изо всех сил, троллейбус внезапно ускоряет ход так, будто срывается с места, но и парень, недаром Верещагин хвалил его резервы, тоже как бы с места срывается, он, видать, могучей породы, только теперь не кричит, не машет руками, голову наклонил, чтоб лучше рассекать воздух, и – не отстает, не отстает, даже приближается.
Наконец троллейбус сдается, подошел его предел – остановка, Верещагин выскакивает из раскрывшихся дверей, парень уже здесь – тут как тут. «В чем дело? – спрашивает Верещагин. – Ты чего, сумасшедший?»
«Девушка у меня, – говорит парень. – Хочу посоветоваться», – и на время замолкает: другой пал бы к ногам Верещагина и издох, а парню – здоровущий какой! – только секунд десять надо, чтоб отдышаться. «Я с девушкой встречаюсь, – говорит он через десять секунд совсем ровным голосом. – Она мне по ночам снится, раньше я думал, что это просто придурь, а после разговора с вами засомневался. Как вы считаете, если девушка по ночам снится – это значит, подходят гены и на ней надо жениться, да?»