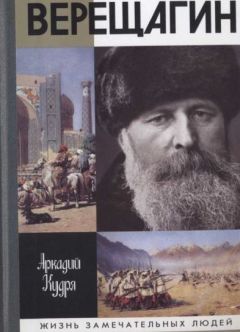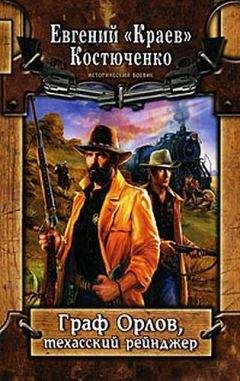Недаром захаживал Верещагин к Пете поболтать. Все изучил, все выискал. Петя смотрит на него как на шпиона.
«Пушку не дам, – говорит он твердо. – Она единственная на весь институт. Меня под суд отправят, если с ней что случится. Нельзя, импортная она».
И тут сдержанный, корректный Верещагин, с глазами, полыхающими голубым холодным огнем, вдруг превращается в прежнего сумасброда, которого Петя снисходительно любил.
«Все! Конец! – кричит этот сумасброд, выхватывает из кармана бутылку и начинает опасно размахивать ею в воздухе. – Мне без пушки – не жизнь! – Он замахивается бутылкой, но целит не в Петю, что бы еще куда ни шло, а в стену. – Будешь на моих похоронах сверкать лысиной!» – кричит он, и Петя зажмуривается. «Нет! – это теперь Петя вопит. – Не разбивайте!»
Он согласен дать магнитную пушку, и все остальное он тоже согласен дать, он объявляет об этом Верещагину, но требует бутылку вперед, на что Верещагин, опять став спокойным и вдумчивым, отвечает, что при всем уважении к Пете он не может полностью полагаться на словесные гарантии; другими словами, сначала пушка и все остальное, а бутылка – когда приборы будут здесь, в цехе. «Они тяжелые», – неизобретательно придумывает последнее препятствие Петя.
Верещагин подталкивает вперед тут же краснеющего Юрасика и демонстрирует его Пете как на невольничьем рынке – закатывает рукава рубашки, чтоб Петя мог увидеть могучие бицепсы, с размаха бьет в упругий живот и даже, забывшись, пытается задрать Юрасику верхнюю губу, желая произвести впечатление наличием и крепким видом белоснежных резцов. «Он все принесет за один раз, – уверяет Верещагин Петю. – Ты только нагрузи на него. Он даже не вспотеет».
Он строго и несколько раз спрашивает Юрасика, вспотеет ли тот, Юрасик несколько раз отвечает, что нет, не вспотеет, краснея при этом настолько, что начинает потеть не сходя с места. Альвина нежным движением стирает этот пот – со лба и под носом. «Ладно», – бурчит Петя и уводит Юрасика.
Через десять минут они возвращаются. Пушка и все остальное – на Юрасике. Он и впрямь не потеет. Побледнел даже. «Вы все ж заявку напишите», – хмуро говорит Петя, и Верещагин пишет, торопясь. «Не имею права удовлетворить такую», – вдруг строго говорит Петя и заявку, которую сам просил написать, почему-то не берет. Верещагин догадывается, выхватывает из кармана бутылку, заявку обворачивает вокруг, и в таком виде Петя документ принимает. Уходит.
Остаются Верещагин, Альвина, Юрасик, Ия и Геннадий.
«Ну-ка, руби этот кабель и присоединяй сюда», – приказывает Верещагин Юрасику. «Его за это не посадят? » – вопрошает, мучается Альвина, ей очень страшно снова остаться одинокой. «Посадят меня», – успокаивает ее Верещагин.
Она становится рядом с печью, она облокачивается на нее, она даже обнимает эту бочковатую машину, она не знает, зачем это делает, так велел Верещагин, у него некоторые соображения насчет флюидов любви, он не очень серьезно относится к этим соображениям, но все ж не хочет пренебрегать даже суеверием, он использует каждый шанс.
178
Шесть раз должна обернуться Земля вокруг самой себя – таков срок Акта Творения. Время от времени постреливает силовыми линиями магнитная пушка, непрестанно и во всю мощь греет импортный обогреватель, давление выше всяких допустимых норм, операторы испуганно косятся на стрелки приборов и время от времени спрашивают, говорят:
«Вы уверены, что печь выдержит?» – Альвина.
«Разлетится вдребезги или – хи-хи – прорвется дырочка?» – Юрасик.
Это одна смена операторов. А вот другая:
«Я не боюсь, мне это нравится», – Ия.
«Если эксперимент удастся, я первый преподнесу вам букет пышных роз», – Геннадий.
«Смерть от взрыва – без боли?» – опять первая смена : Альвина.
…И так далее.
Верещагин отвечает, говорит:
«Не уверен. Просто надеюсь», – Альвине.
«Мне бы твои заботы», – Юрасику.
«Я сообщу в твою галактику, что на Земле ты вела себя молодцом», – Ие.
«Лучше килограмм трюфелей», – Геннадию.
«Смерть всегда без боли. С болью только жизнь», – опять Альвине.
И так далее.
Почти все время он проводит в цехе. Выходит из него только затем, чтоб пробежаться по улице и, задыхаясь, подумать: «Боже! Что я творю?» Он совсем не ест. Ия заставила его взять бутерброд с колбасой, Верещагин, откусив кусочек, побежал в туалет и выплюнул в унитаз: ему показалось, что во рту – глина. Голода он не чувствует. Он всю жизнь любил поесть. К пятому десятку он оброс изрядным слоем жира. Он запасался, запасался. Теперь он тратит. Он не ест. Он ощущает каждое мгновенье физически. Прежде чем оно проходит, Верещагин успевает подержать его кругленькое тельце в ладонях и, выпуская, радостно смотрит вслед. Прошло! Еще одно! Еще! И еще! «Музыка!» – вдруг кричит он, бежит домой, возвращается с магнитофоном – это черт знает что! – пляшет посреди цеха, стыдно так вести себя на людях, но что ему, – вытворяет различные придуманные им па, руки ходят вверх-вниз, в стороны, то плавно, то рывками, музыка хорошая, лицо серьезное.
А операторы? Любопытно им, тревожно и смешно – пляшет Верещагин, какой чудаковатый человек! – кто-то прыскает: Юрасик; кто-то тактично отворачивается: Геннадий; «Вам, наверное, страшно?» – говорит Альвина; «В каком вы нетерпении!» – понимает Ия.
Помахав руками, Верещагин бежит на улицу, не выключив магнитофон – ах, какая музыка несется вслед, зачем же он перестал танцевать, такая песня! – будто человек заплыл в море и не хочет возвращаться. Будто – поныряю, думает, порезвлюсь и потону. Ложится он спиной на изумрудные волны, смотрит на коралл – солнце в бирюзовом небе, и горько ему оттого, что жизнь заканчивается, и радостно оттого, что она еще длится, и глаза у него плачут, а рот – смеется.
Верещагин слышит эту песню, хотя и далеко уже, он мчится по улице, перекатывает в ладонях мгновенья, отправляет их в вечность, бормоча вслед неясные напутствия на мотив замечательной песни, пальцы его дрожат, еще быстрее мчится по улице Верещагин, и вдруг один парень говорит ему: «Здравствуйте».
«Здравствуйте», – отвечает Верещагин, тоже на «вы», хотя парню лет восемнадцать, такого можно бы и на «ты», но бог с ним, ну его, пусть проходит своей дорогой, обласканный множественной формой личного местоимения.
Но парень увязывается за Верещагиным, трусит рядом. «Я вас знаю, – говорит он. – Мы с вами встречались». – «В этой жизни или в той?» – спрашивает Верещагин, чувствующий себя пришедшим в мир вторично. «В театре, – отвечает парень. – Когда спектакль шел, забыл какой. Я к вам тогда в антракте подходил».
«Допускаю, – говорит Верещагин, вглядывается в парня и узнает. – Как же, помню, помню, – говорит он и ускоряет шаг. – Это ты от кого передавал Тине привет?» – в общем-то ему теперь такие события безразличны, но если задавать вопросы, мгновенья скользят быстрее, а этого только и надо Верещагину.